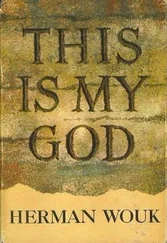Я поймал такси, и мы с «Бобэ» поехали на Лонгфелло-авеню. Наша новая квартира была всего в шести или семи кварталах от старой. Мы легко могли бы пройти этот путь пешком, если бы не бабушкина хромота. Как гласит семейная легенда, это был не врожденный недостаток. В богатом доме, в котором родилась «Бобэ», какая-то горничная то ли ее во младенчестве уронила, то ли обварила ей ногу кипятком, я уж не помню точно. Выросши хромоножкой, «Бобэ» была выдана замуж за ученого, но бедного шамеса и вырастила четверых детей при синагоге, в комнате с бревенчатыми стенами. Так что в бабушкиных приступах хандры не было ничего удивительного. Куда удивительнее было то, что обычно она все-таки была веселой и жизнерадостной старушкой. За это нес ответственность папа. Иной раз он своими шутками и проказами смешил ее до упаду. Он и маму умел насмешить, но он отлично знал, когда не стоило и пытаться. С тех пор как у нас в квартире появились капустные кочаны, он ни разу не постарался ее рассмешить.
* * *
Новая квартира была просто сногсшибательная. Ничего подобного я прежде не видел. Когда я вошел, меня сразу же поразило, что она вся была залита солнцем, оно сверкало на ослепительно белых стенах и до блеска натертых полах. И мама совершенно преобразилась. Настроение у нее было такое же солнечное, как вся квартира. Она отряхнула с ног своих прах Олдэс-стрит и заняла более высокое положение в мире — вот что это было такое. Мама в буквальном смысле слова обняла «Бобэ» и расцеловала ее, и они обменялись несколькими фразами на идише относительно того, какая это удача. Мама гордо провела «Бобэ» через огромные, светлые комнаты, изумительно пахнувшие свежей краской, в заднюю спальню. Здесь, объявила она, когда-нибудь будет спальня Ли. А пока это комната «Бобэ». В спальне уже стояла новая кровать, и мама распаковала бабушкины вещи и повесила их в стенной шкаф. Все было сделано обезоруживающе заботливо и очень мудро, ибо это была самая дальняя спальня, и «Бобэ» оказалась словно сосланной в домашнюю Сибирь. Тем не менее она вся лучилась улыбками и отпускала маме комплименты на идише, готовясь, по маминому предложению, немедленно принять горячую ванну в большой ванной комнате, отделанной сверкающими кафельными плитками. «Бобэ» принимала ванну каждое утро, перед тем как натираться своими мазями. Из-за переезда она ванну принять не успела и весь день об этом угрюмо ворчала. Теперь она сразу же отправилась в ванную комнату, чтобы поплескаться там в полное свое удовольствие.
Мама продолжала распоряжаться грузчиками, указывая им, по женской привычке, что «вот этот стол поставить сюда, нет, лучше вон туда», а я тем временем восторженно бродил по нашему новому обиталищу. Должно быть, мама еще до нашего переселения успела там изрядно поработать: повсюду, где надо, уже были развешаны новые шторы и занавески. Уставленная нашей прежней мебелью, квартира превратилась в наш дом: это был наш старый дом, наша тесная, темноватая квартирка на пятом этаже на Олдэс-стрит, только волшебно расширившаяся в просторные, сияющие апартаменты, куда более роскошные, чем даже квартира Франкенталей, потому что здесь было так светло. Окна выходили на открытое пространство, а не упирались в другой многоквартирный дом, заслонявший небо. Если не считать рекламных щитов и табачной лавочки, то простиравшийся перед квартирой пейзаж представлял собою залитую солнечным светом зеленую пустошь. Восхитительно! Роскошно! Величественно! Прощай, Олдэс-стрит, Срулик, Франкенталь! Такие мысли проносились в моей голове, когда в мою огромную, пустую белую спальню ввалились, кряхтя, Хаим и «Аль Капоне». Они внесли диван-кровать.
— Неплохая квартирка, а? — сказал я им, но они молча поставили диван-кровать и, отдуваясь, вышли.
А теперь я попрошу всех моих пожилых читателей вспомнить, а молодых — постараться представить себе самую жуткую сцену из самого страшного фильма, когда-либо поставленного, — «Призрак оперы» с Лоном Чани в главной роли. Это та сцена, где красивая молодая певица подкрадывается к Призраку, когда тот сидит в маске за роялем и аккомпанирует ей, а она неожиданно срывает с него маску. Ух! Чани вскакивает и поворачивается к ней лицом, которое вовсе и не лицо даже, а ужасный оживший череп, и девушка издает страшный, протяжный вопль. Много позднее Альфред Хичкок создал подобную сцену в фильме «Психоз»: девушка трогает сзади за плечо старую леди, сидящую в кресле на колесиках, кресло поворачивается, и старая леди оказывается скелетом, завернутым в шаль, в седом парике, и девушка издает страшный, протяжный вопль.
Читать дальше