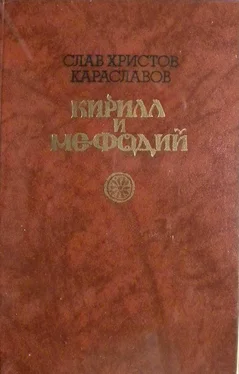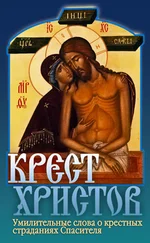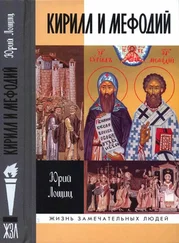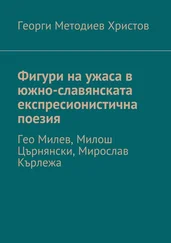Бессмертие создателей азбуки было предопределено родством всех славянских земель, по мириадам капилляров которых происходил не прерывавшийся никогда обмен бесценными духовными сокровищами. Общая душа этого гигантского, только нарождавшегося для грандиозных свершений мира нуждалась в инструменте для выражения себя, для гениального творчества. И этот инструмент появился. Как продолжение жития Кирилла и Мефодия началось шествие кириллицы по славянским городам и весям. Она то усложнялась, то упрощалась, как бы искала себя, и вот уже легла в основу нашего русского письма. «Девицы поют на Дунай, вьются голоса чрез море до Киева...» — так сказал о единстве сознания и общности культурной жизни на всей территории от Дуная до Днепра автор «Слова о полку Игореве». И по той же причине, по долгу того же кровного родства голос Ярославны из Путивля «на Дунай ся слышит...» «Слово...» Разговор о первой славянское письменности, о неразрывном духовном родстве всех славянских народов на может обойтись без упоминания о нем. И я думаю, что успех романа «Кирилл и Мефодий» у советского читателя объясняется еще и тем, что перевод книги с болгарского языка на русский осуществлен писателем, глубоко знающим материал, давно и с любовью исследующим культурные свези двух народов, одним на самых увлеченных толкователей древнерусской поэмы. Поэт. «Поэт с большой буквы», как назвал автора «Слова-..» Пушкин, слагал «песни» о своем времени и на языке своего времени. Он был вооружен азбукой, которую как бесценный божественный дар вложили ему в мозг и сердце два болгарских гения.
Шли годы, буквы эти, азбука эта — кириллица — реформировалась, приближалась к живой речи народов-братьев. Какие-то буквы были из нее исключены, форма других букв менялась. Великий Ломоносов установил новые принципы правописания русского языка, поднявшегося, словно огромное сказочное древо, из первославянского семечка. Но, конечно, жизнь азбуки на атом не закончилась. Шли годы, и вот произошло то, что предсказывалось в «Слове...» Ответный голос Руси, России был услышан на Балканах: в XVIII веке русский гражданский алфавит был принят за основу сербского и болгарского алфавитов. Так продолжалось славное житие самоотверженно посвятивших себя людям солунских братьев. Оно продолжается в поныне. Роман Караславова, раскрывший таившееся в буквах кириллицы глубокое и прекрасное содержание, рассказавший не о святых, а о людях, является данью нашей общей благодарности Прометеям минувших столетий.
Борис РАХМАНИН
Друнгарий — предводитель небольшого подразделения провинциального войска ( греч .).
Стратиг — военный и административный глава провинции ( греч .).
Логофет — начальник центрального правительственного ведомства в Византин ( греч .).
Кесарь — высший придворный титул, который жаловали обычно предполагаемому наследнику престола в Позднеримской и Византийском империях ( лат .).
Фема — крупная административная единица, провинция в Византийской империи, а также войско втой провинции ( греч. ).
Грамматик — грамотный, ученый человек, занимающийся наукой и литературой ( греч ).
Протостратор — один из высших воинских чипов в Византии ( греч .).
Хан-ювиги — официальный титул главы болгарского государства ( тюрк .).
Кавхан — главнокомандующий, ближайшее к хану лицо в средневековой Болгарии ( тюрк .).
Бойл — представитель высшего сословия ( тюрк .).
Багайн — представитель знатного сословия ( тюрк .).
Хем — горный хребет, служивший естественной границей славянских земель.
Василевс — официальный титул византийского императора с середины VII в.
Узкое море — обобщенное название черноморских проливов, в данном случае — Босфора.
Номисма — византийская золотая монета ( греч ).
Перевод А. Гугняна.
Парик — зависимый -крестьянин в Византии и средневековой Болгарии ( греч. ).
Хрисовул (букв.: «золотая печать») — скрепленная печатью грамота византийского императора.
Читать дальше