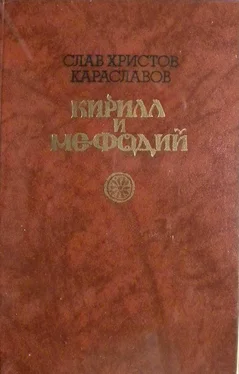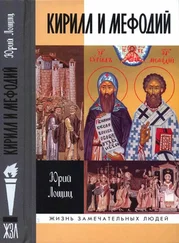Поиск внешнего, графического богатства родной речи — труд немыслимо сложный. Звуки необходимо было облечь в форму, дотоле не существовавшую вовсе или существовавшую в иной греческой ипостаси. Тысячу с лишним лет назад это казалось актом творения.
Аз, буки, веди, глаголь, добро... Наука о знаках — семиотика — утверждает, что буквы еще не знаки. Сами по себе они ничего не обозначают, не имеют содержания. Они как бы «элементарные частицы» языка, из которых складываются «атомы» — слоги и слова, из «атомов» же, в свою очередь, складываются «молекулы» — предложения, тексты. Что ж, спорить тут не приходится. Но эти буквы полны содержания до краев, они несут в себе целый эпос об их создании, потребовавшем от создателей, с одной стороны, долгих лет упорного труда, а с другой — всей без остатка жизни. И здесь имеется в виду не только продолжительность жизни, а сама жизнь, отнятая изнурительной борьбой Кирилла и Мефодия с мракобесием, самовластием и догматизмом... Лишения, физические и нравственные пытки, козни инквизиторов и предателей — все испытали на этом крестном пути братья.
Излишне, может быть, в послесловии к роману возвращаться к его содержанию. Но сделать необходимо. Не пересказ, разумеется, требуется тут, а осмысление происходящего на многих сотнях страниц. Будем анализировать это содержание, вспоминая его, и вспоминать, анализируя.
Слав Христов Караславов вводит читателя в свой роман в узловой момент судеб главных героев, тесно и грозно переплетенных с судьбами средневековых государств. Сыновья солунского друнгария Льва, хоть и славянина по происхождению, но верно служившего византийскому василевсу, братья Константин (позднее он примет имя Кирилл) и Мефодий разделены, по мнению старшего, Мефодия, успехом младшего при дворе. Константин, как помнит читатель, только что вернулся в столицу из земли сарацинской, где в религиозно-философском диспуте с тамошними мудрецами одержал блестящую победу. Константинопольская элита венчает его славой. А по мнению Мефодия, «слава — дьявольский соблазн, молодости не под силу ее одолеть». Бывший крупный сановник, стратиг провинции, под влиянием ударов рока и духовного прозрения отказавшийся от обладания властью, принявший монашество, Мефодий горько переживает предполагаемую потерю брата. Давно лелеял он мечту вместе с Константином «посвятить жизнь поиску свободы, даруемой человеку вместе с рождением», дать людям свет, знание, создать славяно-болгарскую письменность. Совесть напоминает ему и о вынужденной жестокости отца, не раз проявлявшейся по отношению к своему народу. В долгу, в долгу все они перед славянами! Но — увы! — Константин далек сейчас от планов брата. Он вкушает плоды славы...
Да, победы молодого философа во дворце багдадского халифа Джафара Аль-Мутаваккиля имели по тем временам немалое политическое значение. Не зря искушенные в схоластическом словоблудии длиннобородые магометанские муллы, не сумев одолеть ясной и человеколюбивой логики голубоглазого византийца, попытались в бессильном ярости отравить его, поднеся ему бокал с ядом. Престиж византийской империи повысился, у нее появился ореол мудрости. А кроме того, диспут позволил проникнуть в тайные намерения халифа, выяснить, не готовится ли он к новому походу. Вот и чествуют в связи с этим Константина. Люди на улицах мечтают прикоснуться к полам его одежды; милостиво бросает слово поощрения император; радушно, как друга, принимает его логофет Феоктист...
Но женщина, которую Константин давно и бессловесно, почти тайно любит, племянница логофета Ирина, с холодной расчетливостью предпочла ему жестокого, властного кесаря Варду — второе лицо в империи, проформы ради выйдя замуж за сына Варды, горбатенького Иоанна. Вновь и вновь с ужасом ощущает Константин эфемерность своих недавних побед в Багдаде во имя империи, чужой и чуждой ему, ощущает бессмысленность своей учености, своей жизни. Так же, как брата Мефодия, его «дрожь берет» при мысли, что ничего не сделал он для своего народа. А память постоянно подсказывает слова песен, которые пела ему в детстве мать, славянских песен...
С самого начала захватывает, втягивает лексическая, стилистическая инструментовка романа. Вот кишит в своем невероятном убожестве и невероятной роскоши фанатичный Восток; как тело когтистого ящера, разлагается еще живая, еще опасная в своих конвульсиях Византия; сквозь языческий тюркский лик Болгарии проглядывает славянство, и вслед за многобожием и жертвоприношениями во славу Тангры грядет уже в этот край нравственный закон искупителя Христа...
Читать дальше