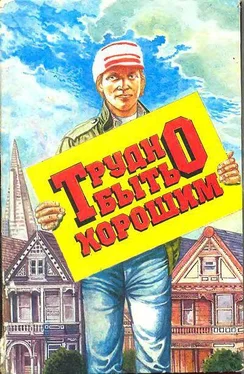Бабушка закрыла Библию. Я поднял глаза, наши взгляды встретились. Мы оба улыбнулись. Я полез в карман, вынул доллар и положил на стол меж нами, но ближе к ней. Она взяла мою руку, накрыла ею доллар, придавила. «Это тебе», — сказала. «Знаю». — «То есть тебе им распоряжаться». — «Знаю». Стало жуть как грустно, не оттого, что ругают, не оттого, что терпишь поражение, просто грустно. Наверное, бабушка заметила это и распахнула передо мной руки. Я к ней наклонился, чтобы мы смогли обняться, а ей при этом не вставать. Пахло от нее старомодно. Плечи были сухощавые. Глубокое чувство любви ощутил я, хотя понимал, что особой помощи от меня ждать не приходится. Она сказала: «Теперь, после такого знамения, надо бы проветрить постельное белье». — «Да, — согласился я. — А потом можно посадить картошку».
Я стоял, опершись на изгородь свинофермы старика Петовского. Оба мы глядели на поросят, и те нет-нет да и посматривали на нас. Съемочная группа близ другого конца загона возилась в нашем микроавтобусе, перезаряжая камеру и фонограмму перед очередной частью интервью. Я продумывал, не упуская из внимания, сказанное Петовским на предыдущем плане, пока не кончилась пленка в бобине. Он описывал непрерывность перемен к худшему:
— Люди жили веселей, чем нынче. Веселей. Мы веяли, понятно вам? Хлеб. Веяли хлеб. Идешь, приходишь к соседу, а то как же. Когда веяли, так фермеров восемнадцать-двадцать. Надо было помочь перелопатить гумно. Надо было отработать свое. Помочь соседям. Весело жилось. Весело, да-да. А сегодня едва ль знаком с ближайшим соседом. Уж не знаю, что нас ждет. Охота еще пожить, лет пяток, и поглядеть, как повернется… Круто, должно, переменится. Круто. Но не верю, чтоб добром кончилось. Не верю.
Дожили, ничто не срабатывает путем. А бывало ль иначе? Трудно сказать. Смотрю на Петовского, он говорит, а я не вслушиваюсь. Вместо того думаю о своих близких, уже умерших. Давным-давно стало как-то тянуть меня совершить покаяние и снискать их прощение. За что? Трудно сказать. За меня вот такого. А ныне просачивается в меня мысль, что есть иной способ устроить это. Я прощу их. Стоит сделать так, и они простят меня. Возможно, начало уже положено.
Петовский, наклонясь ближе, просит внимания и доверительно обращается ко мне:
— Может, не говорить мне это?
— Почему же, смелее. О чем говорить?
— Ну, Уоллесы, ваше семейство, плохо ж кончили.
— Да нет! Кто, Сэм с его магазином?
— Нет, не он.
— Так не Ли же!
— Нет, не он.
— И не тот выпивоха, которого Фрэнком звали?
— Нет. Я про Джона. Глава семьи. Банкир. И надо было, бухгалтерию у него вела двоюродная сестра, вдвое его моложе, и на тебе — родила ребенка.
— Дорогой, — наклоняюсь я к Петовскому, — тот ребенок — я.
Нахохотавшись, он сжимает мои руки в своих и произносит:
— В доме у меня дюжина комнат. Случись опять вам попасть в наш городок и не остановиться в моем доме, ни за что не прощу!
Простит, однако. Прощать легко, стоит только начать.
Умирать Сейре Уоллес выпало долго. Чем она болела, не знаю. В те поры люди умирали от долгих лет. Ей было семьдесят два. Мне — четырнадцать. Она, не приподнимаясь, посмотрела на меня. «Ты уже не мой мальчик», — сказала она и отвернулась. В следующий раз я увидел ее лежащей в гробу посреди парадной гостиной рядом с большим черным кожаным креслом. У меня спросили, не хочу ли я поцеловать бабушку. Рад за нее и за себя, что хватило мне смелости отказаться.
Стюарт Дайбек
Зона Ветхости
Перевела И. Митрофанова (под ред. В. Толстого)
В те годы, между Кореей и Вьетнамом, когда популярность рок-н-ролла достигла своего пика, наш район объявили Официальной Зоной Ветхости. Мэром у нас был тогда Ричард Дж. Дайли. Казалось, он всегда был им и навсегда останется.
Зигги Зилинский уверял, будто видел, как мэр проезжал по Двадцать третьей-плейс в черном лимузине, размахивая на ходу маленьким алым вымпелом — такие носят на похоронах, с той лишь разницей, что на этом красовалась надпись «Белые Гетры». Мэр сидел на заднем сиденье и, глядя из пуленепробиваемого окошка на пьянчужек, распивающих вино у заколоченной бакалеи, печально покачивал головой и вздыхал: «Э-эх! Э-эх! Э-эх!»
Конечно, никто не поверил этому Зигги. Ему и раньше нельзя было доверять, до того еще, как Перец Розадо заехал ему по голове бейсбольной битой. А уж теперь и подавно. До сих пор все помнят, как Зигги — он тогда еще в третьем классе учился, — ни с того ни с сего как вскочит посреди мессы да как завопит: «Видали? Она кивнула! Я спросил Деву Марию, вернется ли домой моя кошка. И она кивнула! Точно вам говорю — кивнула!»
Читать дальше