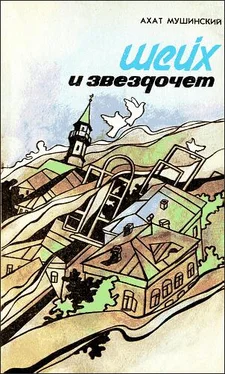И надо же, за тот философски насыщенный урок, который ни в одном университете не услышишь, благодарность: «Я вот выведу тебя на чистую воду!» И это после того, как он его, можно сказать, усыновил, после того, как поднял их с матерью из нищеты и убожества. Хороша плата! Хороша, нечего сказать. За свой же грош ты же и хорош. А ведь этот спиногрыз и в самом деле продаст. Ни за лонюшку табаку... И загремишь, и застучишь по рельсам на стыках в края восходящего солнца, докуда в сорок пятом так и не смогли довезти — сбежал, отстал от поезда в Абакане. Оттого что заменили ему в честь победы вышку на пятнадцать лет трудовой деятельности в Сибири, чувства признательности к советским властям в душе не зародилось и преклонения перед гуманным законом не выработалось, и он сделал то, что сделать в радостный май сорок пятого большого труда не представляло. Сбежать, однако, мог каждый мало-мальски умный человек, а вот сохранить себя на воле — без документов, денег, без одежды приличной, провизии, когда тебя уже по всем станциям на пути в Европу встречает почетный караул, — другое дело. Нет, он не баран, чтобы, вылупив глаза, помчаться на запад, он двинул по Енисею на юг, занырнул в Кызыл и прожил там у одной узкоглазой поварихи, знавшей по-русски ровным счетом два слова, полгода. Затем жительствовал в Таштаголе (в Кемеровской области), в казахском городишке Карсакпай, в Сызрани, и в пятьдесят седьмом вернулся под флагом реабилитированных жертв сталинских репрессий в магнитом тянувшую Казань с документами, в которых именовался Г. Ф. Субаевым.
На просторных полях Ямок Гайнан копал картошку, и разные мысли одолевали его сократовское чело. Картошка была неизвестно чьей посадки, но к законной ответственности его привлечь не могли, так как посажена она была незаконно — местными «частниками» на в общем-то хоть и бросовой, но все-таки государственной территории. Поэтому он рыл без опаски, с головой уйдя в свои размышления.
«И мяса ведь не ест, гаденыш, и денег не берет. Ненормальный какой-то. Как я его не смог приручить? Ненормальный — вот и не смог. Но ничего, ничего, жизнь — борьба, а бороться мы умеем».
Но больше всего тревожило и злило Гайнана то, что Шаих не верит в его боевое прошлое, не верит, что он «военный» майор. С ним о чем-нибудь отвлеченном, а он сверлит глазами, точно всю подноготную знает. Разве мог мальчишка из двух-трех промашек в обыкновенном трепе о войне сделать сколь-нибудь точный вывод, докопаться до истины, без фактов, без специальных знаний, опыта? Подумаешь, по пьяной лавочке перепутал в журнале на картинке танк с самоходкой, а однажды в один и тот же день предстал в своих рассказах утром артиллеристом, а вечером — и опять по пьяни — разведчиком. Выкручивался: без очков, мол, не вижу — это про журнал, а про артиллериста и разведчика сказал — ничего удивительного, да, был разведчиком в артполку.
Гайнан утешал себя, что все-таки ловко выходил из ситуаций, которые создавал его первейший враг — язык. Не таким пинкертонам мозги канифолил. Однако какой-то мерзкий внутренний голосок нет-нет да и зачинал нашептывать: а ведь он не по тем мелочам тебя судит, а по всему твоему житью-бытью, по каждому твоему шагу, по краденому мясу, по фасонным весам, при помощи которых ты обвешиваешь... Надо же было и этим похваляться! Под балдой, конечно. Много пьешь, милок, много. А еще — и это хуже — уверовал в безнаказанность, в сверхчеловеки себя записал, в сверхумные, что ты, у него же не голова, а Организация Объединенных Наций! И не можешь понять, что тебе пока просто везет, стечение обстоятельств, просто не до тебя было в войну, и теперь то же самое, кому в голову придет, что под обыкновенными шляпой и пиджаком осьминог. Кто в тебя вглядывался? Никто. И первый же человек, внимательно на тебя посмотревший, даже не человек — мальчишка, сразу понял, что ты за фрукт.
Невеселые размышления Гайнана прервали два далеких, еле слышных хлопка, будто кто пастушьим кнутом стеганул. Гайнан прислушался. Все оттуда же, со стороны озера, приютившегося за извивом оврага, вместе со всполошенным вороньим граем ветер донес еще два точно таких же отрывистых хлопка. Нет, эти выстрелы не пастушьего кнута дело, это нечто другое, такое, чего давненько не приходилось слышать.
Гайнан поставил неполное ведро в канаву под сухой куст репейника на меже, обил землю с лопаты, взял ее наперевес, штыком вперед, и, прислушиваясь, двинулся к озеру.
Он не ошибся в своем предположении. Стреляли из пистолета. Еще один выстрел треснул, когда он уже подошел к озеру. Но стрелков за нежелтеющей, густой чащобой бузины видать не было. Оставив лопату, Гайнан охотничьим, неслышным шагом вошел в кустарник, раздвинул ветви и сквозь блестящую паутину, как в прицел, увидел Жбана с Килялей. Они преспокойно беседовали у пирамидки камней с консервной банкой на макушке. В руке Жбана — пистолет.
Читать дальше