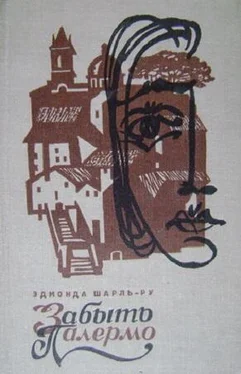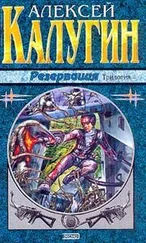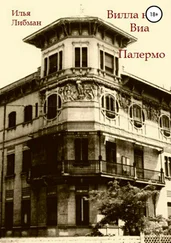«Это мой друг, мой брат, — думал он. — Как же я раньше не догадался?»
Он старался поддержать раненое плечо мальчика, сделать удобней его позу. Кровь, сочившаяся через повязку, стоны, вырывавшиеся во сне из этого гордого рта, волновали Кармине. От гибкого, сонного, одинокого тела, как от щенка, веяло деревенским запахом. Кармине долго не мог определить, чем именно. Ему казалось, что Джиджино пахнул садом, мускусом, корицей, сильным и чистым запахом. Но когда он обнаружил в карманах мальчика лепестки жасмина, заметил, что вся одежда пропитана их ароматом. Вот чем пахло от Джиджино.
Джиджино бредил, и Кармине не всегда разбирал о чем. Раз он услышал слово «голоден», в другой раз у мальчика дергались ноги, он стучал своими босыми пятками, будто удирал от кого-то, и эта лихорадочная борьба с кошмаром мучила Кармине. Он почувствовал себя ответственным за этого страдающего подростка, голова которого лежала на его коленях, за его болезненную испарину, за его горькое детство, за то, что этот детский рот уже перестал улыбаться. Сильней, чем родина, породнила его и Джиджино эта подвальная камера, робкий свет, просачивающийся через отдушину, глухой шум там, наверху, на ночном рынке, чем-то напоминающий лошадиное фырканье. Кармине вспоминал все собственные горести, обиды, жизнь в Нью-Йорке, унижения, муки оскорбленного самолюбия. Он шептал:
— Нью-Йорк — город изгнания, заставивший меня отступиться от моего народа… Ненавижу тебя, Нью-Йорк. — Но даже эти переживания не смогли заставить его забыть о Джиджино: значит, прошлое потеряло для него всю значительность.
Скрип люка и шепот обитателей дома вернули Кармине к действительности и той странной обстановке, в которой он находился.
— Их уже только двое.
Кармине подскочил.
— Что такое? — спросил он.
— Это мы… Мы… У дверей остались двое полицейских. И еще двое — те около церкви святой Эулалии Каталанской. Еще немного обождать. Они потеряют терпение. А для вас есть письмо.
Кармине поблагодарил.
Письмо было спущено на веревке вместе с миской. Это было послание, сочиненное в третьем лице и извещавшее о том, что из осторожности мадам посоветовали вернуться в Нью-Йорк.
Джиджино проснулся.
— От портье? — спросил он, показав на письмо.
— Как ты узнал?
— От кого же еще?
— Ну, не знаю. Могло быть и от жены.
— Нет, — ответил Джиджино, — это от портье. В хороших отелях всегда есть такие люди.
— Он посоветовал моей жене уехать.
— Она бы все равно уехала.
— Почему?
— Женщины не прощают.
Кармине подумал, что Джиджино прав. Мужчины более благородны. Духовно выше. Щедрее. Он это знал, он понимал. «Я нарушил то, что предписано обществом. Бэбс мне этого никогда не простит. — Но тут же подумал: — Какое мне до этого дело? Теперь я играю в другой команде».
Джиджино повторил:
— Нет, женщины не прощают.
И Кармине спросил его:
— Откуда ты это узнал? — думая, что он запомнил чьи-то слова. Но Джиджино, не подозревая значения, которое Кармине вкладывал в это, ответил:
— Узнал на пляжах, мосье, на пляжах, где бабы ведут себя откровенно. — Потом он оглядел погреб, миску с остывшим супом на земле, свою рубаху, запятнанную кровью, и сказал: — Можно подумать, что снова война.
— Война? — удивился Кармине. — Так ведь тебя еще на свете тогда не было.
Джиджино задумался.
— Да нет, наверно, был уже, я ведь что-то помню. А вы думаете, чтобы знать, надо непременно увидеть? Война — это содом, гнилой дух.
— А американцев ты помнишь, Джиджино? — спросил Кармине. Ему хотелось, чтоб он их помнил. Тогда бы они имели что-то общее, эта мысль его неизвестно почему взволновала, как если бы у них появился общий друг или женщина. — Ну, Джиджино, скажи мне…
— Знаете, — сказал Джиджино глубокомысленным тоном, — у нас в квартале из американцев были только негры. — И так как Кармине рассмеялся, Джиджино добавил: — Что вы за человек? Вчера хотели убить меня, сегодня я вас рассмешил. Как вас понять?.. — И договорил: — А как понять, почему люди становятся врагами?
Но в этот момент боль стеганула его, как удар кнутом, и он уже не мог говорить ни о войне, ни о женщинах, ни о ветре. Ему было не до этого.
* * *
У смерти свои хитрости. Она скрывает свой приход, а первые гонцы, предвещающие ее победу, могут быть даже ложно поняты. Кармине стал жертвой такой неразберихи. Он еще упрямо надеялся, пытался сберечь иллюзии. Свернувшись в уголке подвала, он глядел на мальчика и искал в его усталых чертах признаки будущего выздоровления. Вот хотя бы румяные щеки, право, он лучше выглядит, цвет лица совсем другой. Да и голос его снова стал резким, как прежде, когда он продавал жасмин, только немного хриплым. Джиджино жаловался, что ему что-то мешает в горле. А если б он попробовал кричать, как прежде? Наверно, его услышали бы на всех перекрестках. А этот зуд вокруг раны — так, верно, бывает при заживании.
Читать дальше