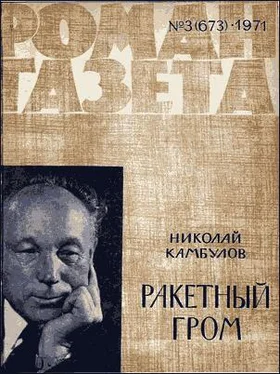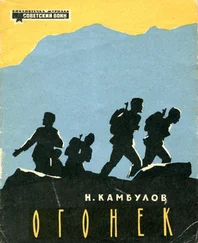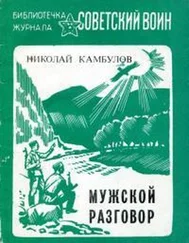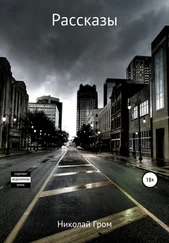IV
Письма от Елены чаще всего приходили прямо в часть, но Бородин предпочитал читать их дома: разденется, ляжет на диван и читает не спеша, комментируя вслух почти каждое предложение: «Это, значит, задание, хорошо, куплю», «Нет. Елена, ты не права, скучаю самым серьезным образом», или: «Да, да, свободного времени действительно нет, жмут старшие начальники, да и сами мы горючего не жалеем, подбрасываем, чтобы крутились без передыха».
Письмо, которое он получил сегодня после политических занятий, хотелось прочитать сразу, здесь, в кабинете. Но едва он опустился в полумягкое кресло, едва взглянул на настольный календарь (на листке были его пометки, чем он будет заниматься во второй половине дня), застрекотал телефон. Звонил из города Громов. Он просил прислать в горвоенкомат грузовую машину с офицером или со старшиной Рыбалко, чтобы принять там курсантов, прибывших на стажировку; с хлопцами он, Громов, виделся, и будто бы парни подходящие, и «это надо сделать сейчас же».
Пришлось отложить письмо, хотя конверт был уже надорван. Бородин вызвал посыльного солдата, велел сходить в гараж, передать Рыбалко, чтобы тот немедленно приехал на грузовой машине в штаб. Посыльный ушел, и Бородин поспешил прочитать письмо. Оно было написано на одной страничке маленького листка, размером не больше портсигара. Это удивило Бородина: раньше Елена писала не меньше как на шести — восьми тетрадных страиичках. Он прикрыл письмо ладонью, встревожился, страшные мысли хлынули в голову, в воображении мелькнула Елена почему-то на операционном столе, потом грузовая машина, окровавленный Павлик. С минуту он боялся поднять руку и прочитать письмо, потом отодвинул ладонь так, чтобы увидеть первые строчки.
«Дорогой Степан, не сердись, что так мало пишу. — И, вскочив с кресла, разом прочитал остальное: — Он родился, Степушка, он — это наш сын... Павлик здоровенький. Я поправляюсь. Скоро приеду. Писать много не могу, окрепну, тогда уж...
Целую, Е л е н а.»
«Он родился!» Все заботы вдруг отодвинулись далеко-далеко, и в мыслях остался только он, маленький живой человечек, его и Еленин сын, братик Павлика. Бородин шагал по кабинету, ходил из угла в угол, вокруг стола. Обыкновенные вещи — стол, чернильный прибор (Бородин им никогда не пользовался и несколько раз собирался выбросить, ибо писал только авторучкой), старое полукресло, облепленное инвентаризационными штемпелями и металлическими бирками, несколько стульев, некрашеных и напоминающих своим видом голых уродцев, план политической работы, любовно написанный цветными карандашами самим Бородиным, с пестрящими галочками — знаками о выполнении мероприятий; список соревнующихся подразделений с кратким описанием социалистических обязательств, шкаф с книгами и полочка-вешалка, на которой сиротливо лежала его фуражка. — все эти простые пещи показались ему необыкновенными и чуть ли не живыми существами, способными понять охватившее его чувство. Он дотрагивался до них с нежностью и все повторял: «Слышал, теперь у меня два сына — Павлик и он», или: «Ну что ты скажешь на это? A-а, завидуешь! Елена скоро привезет его, Елена!»
Он даже не заметил, как открылась дверь, и в кабинет вошел Рыбалко, чуть прихрамывая на правую ногу. Когда тот заговорил о поездке в горвоенкомат, Бородин не сразу его понял, схватил старшину, начал тискать своими огромными и крепкими руками. У Максима аж потемнело в глазах, и он пытался вырваться, но Бородин держал его цепко, таская по кабинету и шепча: «Ах, старина, старина, что-то ты ослабел. — И вдруг, освободив Рыбалко, воскликнул: — Хочешь поехать на юг, в санаторий? Путевку достану, вместе с женой!»
Рыбалко поднял с пола упавшую с головы фуражку, опасливо поглядывая на Бородина, подвинулся к выходу. «Неужели свихнулся? Ведь днюет и ночует в части!» — промелькнула у Рыбалко тревожная мысль.
— Самим вам надо в санаторий, товарищ подполковник.
— Мне? Что ты, Максим! Сейчас я могу сто лет без отпуска служить. A-а, давай я тебя еще помну...
— Нет, нет, — поспешил Рыбалко и показал на ногу: — Болит...
— Что с ней?
— Осколок наружу просится...
— Надо в госпиталь лечь. Я сейчас позвоню...
— Потом, товарищ подполковник... А вообще-то, Степан Павлович, мне пора штык в землю — и на отдых. Двадцать шесть лет грохнуло, как я среди пушек и теперь вот — ракет. — Он вынашивал эту мысль давно («и годы не те, и знания не те, чтобы состязаться с молодежью»), но ни с кем не делился ею и сейчас в душе ругнул себя за те слова, что сорвались. «С замполитом творится что-то непонятное, глаза горят, как у малярика, конечно, переутомился... А я со своей хворобой».
Читать дальше