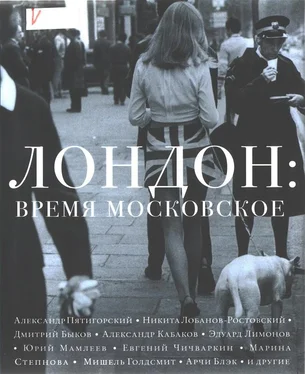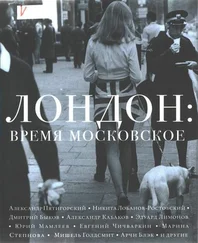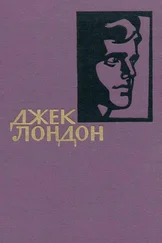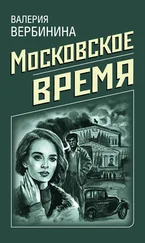Почему одним удается стать своим, а другим нет?
— Ну, они молодые… — говорит Чичваркин, — душой. А мне в этом году сорок.
— Старичок!
— Какая-то часть души у меня молодая. Я это чувствую, когда на лошади скачу… Но на самом деле голова уже не так варит, как прежде. Не факт, что я бы смог сейчас открыть такой же магазин, хотя прошло всего несколько лет. Теперь я заслуженный всероссийский бездельник. Очень боюсь лишних усилий. Вчера я в ресторане нарезал капусты больше, чем нужно было для сыра, и расстроился. Ну почему мне не сказали, что больше не надо лазить руками в эту ледяную воду?..
Накануне Чичваркин получил не только ценные знания об устройстве высокой кухни, но и лишнее подтверждение тому, что вряд ли сможет вписаться в здешний истеблишмент. В какой-то момент английский повар затараторил так, что Евгений Александрович понял только какие-то обрывки слов. Хватай горшок… постругай полторы горсти… прополощи и покромсай… тащи…
Остальные слова шеф проглотил комками, не прожевав.
“Извините, пожалуйста, — сказал тогда «поваренок». — У меня не очень хороший английский. Не могли бы вы повторить помедленнее — или показать?”
И повар повторил — только с той же скоростью, да еще используя в этот раз слова, которые сами англичане уже сто пятьдесят лет не произносили. “Чтобы тем самым показать мне, что я хоть и с лысиной уже, а все еще лох”, — улыбается Евгений Александрович.
День в ресторане вообще выбил его из колеи, и его переполнили впечатления, которые определили мизантропическое настроение Чичваркина и его болезненную критичность по отношению к соотечественникам, которую он продемонстрировал во время нашей встречи.
В интернациональном коллективе, состоящем из англичан, китайца, баска и выходцев из Африки, на кухне помимо гастролера-миллионера работало еще двое русских. Они мыли посуду, от них плохо пахло и во время обеда они сидели за отдельным столом.
Они не знали, что Чичваркин русский, и разговаривали, предполагая, что их никто не понимает.
“Мне хотелось подойти к ним и сказать: если бы ваши коллеги слышали, о чем вы говорите, они бы не только за одним столом с вами не сели, но и руку бы перестали подавать, — признается Чичваркин. — Мне было жутко стыдно”. Стыдно, когда те, кого ты считаешь своими, моют посуду, в то время как те, кто тебе чужой, участвуют в создании гастрономических шедевров. Стыдно, когда те же свои из раза в раз выбирают несвободу и позволяют тиранам управлять своей страной.
— Мы ужасно выбираем себе вождей, за редкими исключениями вся наша история — это просто парад уродов, — сокрушается Евгений Александрович. — И я такой же, как остальные. Мне жутко стыдно, что я не добился посадки ментов, которые пытались нас ограбить. Мне стыдно, что в двухтысячном году не пошел на выборы, не голосовал против Путина… Мы отдали страну чекистам. И теперь иногда думаю: неужели мы ни на что другое не способны?
Опыт самого Евгения Александровича вроде бы показывает, что способны — и еще как. Но в каком-то смысле это лишь красивая иллюзия. Бизнесмену в Англии приходится даже уроки вождения брать — чтобы научиться ездить, как ездят местные.
— То есть через две сплошные ты здесь уже не разворачиваешься?
— А ты понимаешь, здесь можно! — даже повышает голос от возмущения, но отнюдь не здешними порядками Чичваркин. — Здесь на самых основных магистралях — прерывистые. Тут практически нет сплошных… В общем, есть где развернуться. Мир тут устроен хорошо и разумно — но только предназначен не для нас.
— Можно в Америку поехать, — предлагаю я, — там каждый может стать своим.
— Каждый, кто хочет стать американцем. А я не хочу. Лучше быть хорошим русским, чем посредственным американцем. И я хочу все самое лучшее, что есть в нас, в русских, вытащить на поверхность.
— А что в нас хорошего-то?
— У нас размах души.
— Ты про способность нажраться так, чтобы три дня потом не вставать?
— Или мост построить вот отсюда — туда. Или какой-нибудь летучий корабль…
А зачем, собственно, строить-то эти воздушные замки? Ведь все уже построено, а магазин предпринимателя совсем не зря назван гедонистическим. Когда Чичваркин только готовился к открытию, он любил рассказывать, что за этим словом лежит целая философия.
Философия высшего удовольствия лежит — как главной цели человеческого бытия. Мол, создан человек для удовольствий, и баста, а посему нет на свете ничего важнее.
Читать дальше