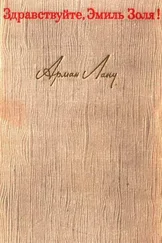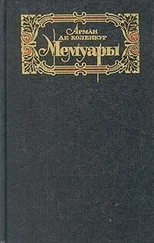У Фреда вырвался какой-то неопределенный жест.
Должно быть, это означало: «Мне двадцать три года, Сюзи — шлюха, а муж ее — идиот. И с такими вот учителями неизвестно чего ждать от завтрашнего дня. А писать я имею полное право, где хочу, тем более что я это делаю вполне прилично. Нет, в самом деле — что тут плохого? И катитесь вы!..»
Робера удручало, что у них с Жюльеттой обострились отношения: выходит, каждый из них тянул в свою сторону. Они не понимали друг друга. Они говорили на разных языках. Китайский мандарин и представительница племени инков. А после рассказа жены о случае в Булонском лесу он совсем расстроился. Жюльетта никогда ни словом не обмолвилась об этом эпизоде, хотя он многое мог бы объяснить в ее поведении. А она только сейчас, в присутствии чужих людей, поведала эту историю, словно хотела бросить ему вызов. И сегодняшняя ее откровенность была для него так же оскорбительна, как и вчерашнее молчание.
— Робер, — сказал Оливье, немного успокоившись, — ты не однажды спрашивал меня, что происходит в голове больного. Вот послушай эту запись, я сделал ее сегодня ночью у постели Ван Вельде. Довольно любопытно.
Оливье нашел нужную катушку, включил магнитофон. Пока лента перематывалась, они слышали лишь визгливую скороговорку. Но вот пленка раскрутилась, Оливье отрегулировал звук, и до них донесся нормальный, хотя и приглушенный человеческий голос. Трудно сказать, что именно искажало его: плохая запись или самое состояние человека — полусна-полубодрствования.
Робер сидел весь внимание, подперев голову руками и опершись на колени.
«— Скажите, мосье Ван Вельде, что вы сейчас видите? — спрашивал Оливье».
Странно было слышать Оливье в то время, как он молчал. До сих пор Робер не мог привыкнуть к этому отторжению человека от самого себя — явлению, обычному на радио и телевидении.
«— Шобаки, — ответствовал больной. — Они кусаются. Нельзя штобы они так бегали, без присмотру. Я буду жаловаться… капитану… Они у меня толкутся в ногах… Одна шовшем махонькая. Я взял ее. В кулаке умещается».
Изменившийся почти до неузнаваемости медлительный и скорбный голос Ван Вельде. И другой, более явственный, голос врача, звеневший временами на необычно высоких нотах, не свойственных Оливье, молча сидевшему возле Робера и слушавшему самого себя.
«— Мосье Ван Вельде, вы уверены, что это собаки?
— Не знаю, может, это крысы. Не надо говорить Сюзи, что я тут с шобакой. Мне хочется искурить сигарету, мосье директор. Я должен ушпеть на поезд. Как хорошо, война кончилась… Мне б с аистами во Францию…
— Ван Вельде, где вы? — терпеливо вопрошал голос Оливье Дю Руа.
— Я не знаю».
Больной начал путаться, что-то бессвязно бормотал, все больше погружаясь во мрак бреда.
«— Ох, тошнит меня, тошнит… моторам нужно вино… негодяи… обманщики… Сюзи… Прекрашно, капитан. О, мосье директор, проштите меня.
— Мосье Ван Вельде. Вы знаете, где вы. Ну же, ну!
— Да, мосье, да. Я вижу. Я шплю в зале ожидания. Какой-то фриц падает из окна и ложится рядом со мной. Грязная шкотина. Я никогда их не выносил, этих фрицев. Он лижет мне пальцы. Но это ничего. Это шобака. Раз, я отхватил ей башку. Она ее снова прилепила. И опять лижет меня! Ох, мне хочется отрезать мою шобштвенную голову. Я должен знать все наизусть, я должен пройти ошмотр. Школько это? Десять франков? Я больше люблю маленьких девочек и поезда…
— Почему поезда, мосье Ван Вельде?» — опять перебивает его Оливье, тот ночной Оливье, Оливье-призрак. Он вел беседу осторожно, как опытный гипнотизер, голоса — переплетались. Люди в комнате затаили дыхание, пронизанные трагизмом этой беседы:
«— Поезда черные, но поездов шлишком много. Шлишком много шобак в них. От них вонь идет. Доктор, я не могу отрезать все головы. Что делать с крысами?
— Ван Вельде, вы спите?
— Да нет же, нет! Я же шказал вам, здесь — шобаки. И они лижут руки. Мне надо бежать. Я не расстрелян. Я болен. Ох, мне больно, тут, рядом. А я должен пройти ошмотр.
— Где рядом, мосье Ван Вельде? Где болит? Ван Вельде, вы слышите? Я друг вам».
Олизье все время повторял имя больного.
«— Рядом. Рядом шо мной. Говорят же вам, я не идиот. Вот ведь я прыгаю. Чего же вы хотите. Видите… Я отрежу себе все пальцы, и у меня будут стеклянные глаза…»
Затем в невидимом чреве машины опять что-то глухо заурчало, завыло и захрипело.
— Мне подумалось тогда, — сказал Оливье, — что в его расторможенном мозгу проходили картины действительной жизни, чего-то пережитого. Но — тише! Фред, и тебя не обошли вниманием. Сейчас речь пойдет о тебе!
Читать дальше



![Артур Кларк - Свидание с Рамой [Город и звезды. Свидание с Рамой]](/books/104059/artur-klark-svidanie-s-ramoj-gorod-i-zvezdy-svid-thumb.webp)