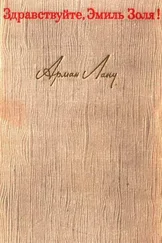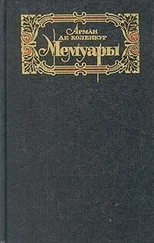Потом Букэ нарисовал в воздухе детские фигурки и, разбросав их вокруг себя, разыграл сценку «Рождественский Дедушка, окруженный стайкой ребятишек». Его шутовская физиономия с лихорадочно блестевшими глазами сразу подобрела и потеплела. Потом он стал мальчишкой, который получает свою игрушку. И на миг все поверили, что этот размалеванный паяц с блестящими зрачками действительно маленький мальчик.
Выступление мим решил закончить опасным кульбитом, но, сделав вид, что номер не удался, клоун Букэ плюхнулся на зад, и зала наградила его дружным хохотом. Тогда он, тщательно копируя повадку циркового клоуна, встал, потирая зад и морщась от боли, и под громкие аплодисменты проковылял к своей постели.
— Бедняга, как, должно быть, он любит малышей, — вздохнула Жюльетта.
— Да, — откликнулся Оливье, — вы правы, Жюльетта, он обожает деток.
Бог с ней, пусть верит в эту ложь!
Эгпарс, оказавшийся более словоохотливым, пустился в объяснения. Оливье, взяв Робера за локоть, сказал:
— Ты понял, какое ужасное желание скрывается за пантомимами Букэ? Наверное, что-то в этом роде представлял собой и Жиль де Рэ.
— Наверное, — подтвердил Робер. Он думал о клоуне, о Ван Вельде, о том Португальце. — Да, — прошептал он, — эта самая длинная ночь уходящего года мне навсегда запомнится.
Умывальники в больнице располагались прямо против палаты. Перед одним из них элегантный молодой человек намыливал руки. Он поздоровался с гостями и продолжал свое занятие.
— Счастливого рождества вам, мосье Боссеманс, — приветствовал его Эгпарс. — Из вас получился бы прекрасный врач, вы всегда так тщательно моете руки.
— О нет, доктор, — я не могу понять, что с ними. Решительно не могу. Они все время грязные.
Боссеманс протянул свои безукоризненно чистые, бело-розовые руки; от частого мытья кожа на кончиках пальцев сморщилась.
— Они все время грязные. Все время.
И он опять сунул их под кран.
— Четыре месяца назад Боссеманс женился. Он без конца моет руки. Ничего другого он уже не может делать.
Хозяин зверинца демонстрировал гостям своих зверей. Он подошел к другому мужчине, о нем вы бы сказали, что это служащий, — аккуратно одетый, приветливый, внимательный, но глаза неспокойные.
— С праздником, мосье Баллон. Вам ничего больше не слышится? Вас никто ночью не тревожил, не оскорблял?
— Нет, доктор, пока что нет. Они замолчали. Еще бы, в такую ночь! Разве они посмеют. Пойду сейчас лягу. Сегодня я буду хорошо спать.
— Удивительно все-таки, мосье, — проговорил Оливье, когда больной уже не мог их слышать, — что во всех рождественских побасенках проглядывает одна мысль: якобы в самую длинную ночь года злые духи теряют власть над людьми. Видите, у Баллона это тоже зафиксировано в сознании, и он спокоен. Если разобраться, мы многого не знаем, и эти самые побасенки могут кое-чему и нас научить!
— Совершенно верно, — сказал Эгпарс, — как утверждает Юнг, существует некое «коллективное бессознательное».
Можно было и впрямь подумать, что Эгпарс не в больницу их привел, а, по крайней мере, в театр или в музей живых фигур. Музей Дюпюитрена, демонстрирующий интеллектуальные уродства.
Неуклюже, бочком, к ним двигался одеревеневший из-за неотвязного чувства тревоги рыжий малый с помятым лицом.
— Мосье доктор, — без обиняков приступил он. — Мне было так плохо из-за вас. Зачем вы так говорили? Мне было очень плохо. Вы сами знаете. Вы не должны были так говорить. Правда, правда. О, я понимаю, вы просто разыграли меня, но у меня-то действительно никаких новостей, — и в рождественскую ночь! Я места себе не нахожу. Время тянется бесконечно. И надо же, чтобы именно сейчас с женой стряслась беда. А вы, доктор, такое говорите. Зря вы так.
Он вернулся к своей кровати и сел, обхватив голову руками.
— Мания преследования. Утром он получил письмо от матери. Естественно, прежде все письма читаю я. Мать сообщает ему новости о жене, та забрала детей и уехала. Конечно, ей досталось… Он знает, что она ушла, но он не хочет знать этого… Медам, не задерживайтесь, я покажу вам генерала. Правда, он не вполне прилично выглядит, но зато живописен. Прошу вас не отставать от гида…
Его сравнение не показалось никому циничным, он просто иронизировал сам над собой.
«Генералом» назывался некий унтер-офицер, прибывший из Конго. Его никогда не видели унылым, он все время смеялся, широко открывая кроваво-красный мясистый рот и показывая гнилые желтые зубы. «Генерал» стоял по стойке смирно.
Читать дальше



![Артур Кларк - Свидание с Рамой [Город и звезды. Свидание с Рамой]](/books/104059/artur-klark-svidanie-s-ramoj-gorod-i-zvezdy-svid-thumb.webp)