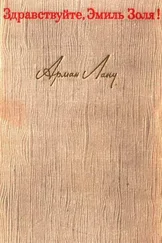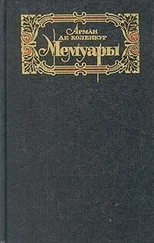Робер взял горстку снега, растер им докрасна руки, тщательно вытер их сперва носовым платком, а потом еще полой шинели и снова сунул в перчатки. От холода глаза слезились. Дня не проходило, чтобы у них кто-нибудь не обмораживался. Зима тридцать девятого — сорокового выдалась суровая, почти все время термометр показывал -20°; солдаты не покидали позиций и мерзли в своих окопчиках, согреваясь лишь — и то не очень — сухим спиртом, когда тот был.
Это еще нельзя было назвать настоящей войной, но нечто похожее начиналось. Участился обстрел. Немцы, их довольно миролюбивая баварская дивизия, время от времени принимались упражняться в стрельбе по французским позициям, отвечая на вызов агленских батарей, получивших клички «Ирма», «Клара» и «Мисс Бромюр». Артиллеристы обеих сторон как могли проявляли взаимную учтивость. Они не стремились причинить друг другу зла, но порой случалось, что какой-нибудь бедолага, отправившийся по воду или до ветру, оказывался навсегда вычеркнутым из списков сражавшихся: он погиб, застигнутый более или менее случайной пулей, выпущенной почти наугад, и смерть его никому не была нужна.
Подразделение, которым командовал младший лейтенант запаса Робер Друэн, в мирное время постановщик на радио, занимало деревушку под названием Аглен Верхний, расположенную на отлете — невдалеке от крупного населенного пункта Аглена Нижнего.
С рекогносцировки Шарли и Робер возвращались затемно; красное пятно крыш Аглена Верхнего потемнело и казалось сгустком крови на фоне сиреневых сумерек; в памяти тотчас же всплыл образ пехотинца времен войн семидесятого и начала четырнадцатого годов.
Когда до деревни оставалось метров сто, Робер, вложив два пальца в рот, как уличный мальчишка, свистнул. И тут же в темноте у одного из домов возникла человеческая фигура. Навстречу им двигался рослый парень в форме сержанта.
Они вошли в деревню с восточной стороны. Прошлой ночью Робер Друэн приказал своим солдатам снять колючую проволоку, что те и сделали, несмотря на мороз, но кое-где она еще оставалась. Поэтому Робер и его спутники осторожно ступали по твердому насту, стараясь не напороться на торчавшие там и сям шипы, — это было похоже на игру в «жмурки». Их сопровождала варварская музыка, — при каждом неосторожном шаге раздавалось треньканье жестяных банок из-под консервов, развешанных на колючках на случай, если здесь вдруг объявится вражеский патруль.
Робер обменялся несколькими словами с сержантом — рудокопом по профессии, поздоровался с солдатами, те приветствовали его с суровой теплотой. Они любили своего командира, и они хотели, чтобы лейтенант, его друг, заметил, как они любят своего командира. Пост остался позади, перед ними лежала мрачная приземистая деревенька, лишившаяся всех своих обитателей, которые стали покидать ее с первых же дней мобилизации, и выпотрошенная, как устрица, от которой осталась одна лишь скорлупа. Считалось, что это опустошение — дело рук марокканцев и каталонцев, уже побывавших тут раньше, да иначе и быть не могло, ведь немцами здесь и не пахло, а штими примкнули к Сопротивлению.
От ходьбы Робер согрелся, щеки, защищенные башлыком, поверх которого была надета каска, раскраснелись, он чувствовал себя превосходно. Война открыла ему прелести жизни физической; он понял, что такое спать, после того как отшагаешь тридцать километров, что такое есть горячую пищу, после того как три дня подряд питался одними консервами, что значит пить обжигающий горло спирт и дышать полной грудью на вольной природе среди бескрайних просторов. В его городской душе, сокрытые глубоко в ее недрах, пробудились свойства, оставленные в наследство предками — земледельцами и охотниками.
Аглен Верхний выглядел весьма уныло. В церкви на месте двери зияла черная дыра, а сама дверь, обитая гвоздями, беспомощно болталась, сорванная с петель. Шагах в десяти стоял одинокий, всеми покинутый пежо, похожий на огромную, окоченевшую черепаху, а рядом похоронные дроги простирали в мольбе свои черные руки. Офицеры двигались по направлению к столовой, навстречу северному ветру, который яростно хлестал их по физиономиям. В этот час, когда день сменялся ночью, люди возвращались на свои боевые посты, на ночное дежурство.
Приглушенные сумерками просветы, прочертившие красноватый фон домов, несколько оживляли лицо этого края, где все, начиная от елей и кончая коньками на крышах, действовало на них угнетающе. Робер думал об одном «голубом» офицере первой мировой войны, его звали Аполлинер. На память пришли строки из Рейнских стихов, он прочел:
Читать дальше



![Артур Кларк - Свидание с Рамой [Город и звезды. Свидание с Рамой]](/books/104059/artur-klark-svidanie-s-ramoj-gorod-i-zvezdy-svid-thumb.webp)