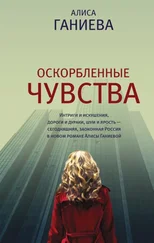Вообще, о собственном будущем и судьбах страны стало удобней размышлять в формате сказки, мифа, антиутопии, альтернативной истории, ультра-фикшн, даже не столько вразрез с западным рационализмом, сколько из стремления обнулить систему ценностей и обрести новые символы веры. У А. Иличевского или А. Снегирёва (в «Нефтяной Венере») обожествляется нефть, известняк, у А. Иванова – геопоэтика Урала, у М. Рыбаковой – река («Острый нож для мягкого сердца»), у М. Елизарова демонизируется душа поэта-классика (“Pasternak”), у Г. Садулаева рождается псевдочеченская мифология («Илли»), у М. Хемлин – ветхозаветные аллюзии («Про Иону») и т. д. Вакуум, образованный секуляризацией сознания, разрастанием капиталистических форм производства и вымещением иррационального, в конце концов заполняется тем, что О. Лебедушкина предложила называть «новой готикой» [107], а я бы скорее обозначила как неоромантизм с его неоформленностью и стремлением к непостигаемым смыслам.
Диффузию нереального в реальное тоже можно трактовать как реакцию на предсказуемость западной модели существования. Образ Хозяйки медной горы из «2017» О. Славниковой или забайкальские духи и травы из «Степных богов» А. Геласимова – это нечто сакрально-российское, национальное взамен глобально-безличностных культурных ориентиров буржуазного общества.
К тому же мифическая структура повествования (притчи, сказания, аллегории) более заданна и стабильна, что в эпоху тотальной ненадежности играет роль своеобразного психологического поручня. Любопытно, что именно в нереалистических произведениях четче и выпуклее прорисована композиция, присутствуют внятная экспозиция и концовка. К примеру, во вступлении к роману-легенде М. Рыбаковой «Острый нож для мягкого сердца» заранее набросана фабула: «Это история о реке, о женщине, влюбившейся в реку, их сыне, который стал вором, и о его бесславном конце» [108]. А в конце своего мистического путешествия за бессмертием (в романе «Сгинь, коса!») А. Королев говорит напрямую: «Пора прощаться, читатель!» [109].
Сам по себе мировой финансовый кризис вряд ли будет иметь какое-либо влияние на литературный процесс (коммерческие романы, использующие экономический переполох как красную тряпку, не в счет). Кризисное мироощущение присутствовало в художественно-словесном пространстве и до того, сгустившись в последние годы в обилие дистопий, а вернее – проекций социально-политических недугов российского общества на некоторое (не очень большое) время вперед. По логике происходящего, поток дистопий должен прекратиться: президентские выборы прошли, а кризис вытряхнул власть из дремоты. С другой стороны, депрессивная неопределенность существования продолжается – мы не знаем, на сколько хватит нефти (по одним расчетам – лет на пятьдесят, по другим – на тысячелетия), кто и когда будет следующим главой страны (ведь вопрос со сроками еще толком не решен), что будет с армией, в которую идут бывшие уголовники и т. д. Так что этот кризисный жанр вряд ли вымрет до принципиального для страны 2020 года.
Возможно дальнейшее развитие путевой прозы (как «Путешествие из России. Империя в четырех измерениях» А. Битова, «Щукинск и города» Е. Некрасовой), поскольку путешествие предлагает свою – романтическую – антитезу прагматичной привязанности к тотальной машине офисного управления.
Однако все новые литературные тенденции будут связаны не с внешним мировым кризисом, а с внутренним – жанровым, стилевым или мировоззренческим.
Не лезь в пекло вперед батьки
«Новый реализм» – то, что носится в воздухе. На авторство нового термина уже успел попретендовать не один деятель литературы.
В кризисную эпоху излета постмодернизма возрождение реалистических традиций в искусстве вызывает не до конца обоснованные надежды на стабилизацию. А после того как перед словом «реализм» ставят прилагательное «новый», у людей тут же случается приступ воодушевления. Новый – это уже не совсем официальный, и даже революционный. Отсюда боевой пафос манифестов, создаваемых апологетами термина, претензии на возрождение лучших традиций золотого века литературы и т. д. и т. п.
Объяснить, что кроет под собой новоявленное словосочетание, никто толком не может. Получается, что термин придумали, а того, что он мог бы обозначать, в природе и в литературе нет.
Нет дифференцирующих признаков, различающих реализм «старый» и реализм «новый», нет системы способов познания действительности, которая бы отличала этот метод (назовем его так) от остальных.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
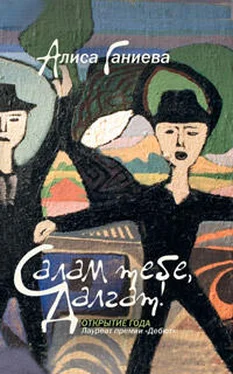

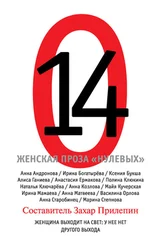
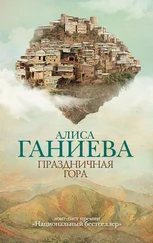


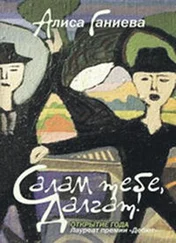
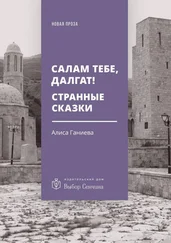
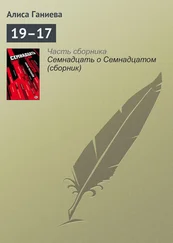
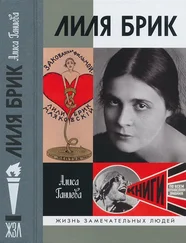
![Алиса Ганиева - Лиля Брик - Её Лиличество на фоне Люциферова века [calibre 3.46.0]](/books/402691/alisa-ganieva-lilya-brik-ee-lilichestvo-na-fone-lyuc-thumb.webp)