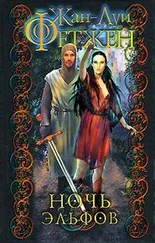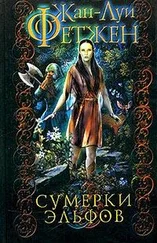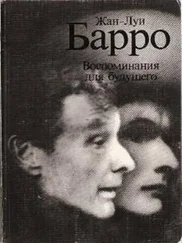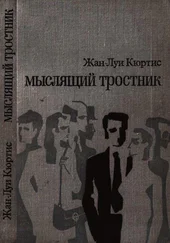— Да!
— Но это же… это…
— Воровство, — хладнокровно закончила она. — Когда крадут, это называется воровством. Ты мямлишь, но логично.
От волнения Иоганнес стал пунцовым. Он попытался взять непринужденный тон:
— Но… Как же ты это сделала?
— О, старина, все так просто. Тут я непревзойденный мастер. Хочешь, научу тебя?
— Нет, право, я не испытываю желания.
Он подошел к кушетке, протянул Лисбет стакан с виски.
— Ты разочарован, да? — спросила она. — Мой подарок утратил в твоих глазах свою ценность?
— Нет, кое-какая ценность в нем все-таки осталась. Намерение. Ведь его нельзя сбросить со счетов…
— К тому же, согласись: я свободно могла бы оставить тебя в убеждении, что купила гравюру на собственные деньги. И ты ни на минуту не усомнился бы в этом. Разве не так?
— Признаю, ты очень честный человечек.
Оба они рассмеялись, и Лисбет мгновенно помолодела, смех сделал из нее лучезарную девушку. Иоганнес снова сел в кресло, держа в руке стакан фруктового сока.
— И все же, — проговорил он, — не думай, что я одобряю… В отношении буржуазной морали я весьма… устарел. — Последние слова он произнес по-французски.
— Перевод, пожалуйста, — сказала Лисбет.
— Из другого века. Ты права, я динозавр.
— Но вся твоя проклятая буржуазная мораль основывается на воровстве. «Собственность — это воровство». Так сказал один из твоих любимых французов.
— Да, знаю…
— В капиталистическом обществе воровство в крупном масштабе практикуется или, на худой конец, покровительствуется государством. Много веков капиталистический Запад грабил «третий мир» и продолжает грабить его и сейчас под еще более лицемерной личиной. Крупная индустрия эксплуатирует миллионы рабочих. Класс власть имущих благоденствует на спинах бедняков. А ты хочешь, чтобы я испытывала угрызения совести, стащив маленькую гравюрку у старого мошенника-антиквара?
— Дорогая, как же красиво ты говоришь, когда тебе нужно оправдать свой проступок!
— Но кроме шуток, ответь мне искренне: разве я не права?
— Не знаю. Для меня мораль — абсолют, вне зависимости от того, как она рассматривается на данном историческом этапе. В этом я тоже кантианец, как и в пунктуальности.
Лисбет отхлебнула глоток виски.
— Значит, — продолжал Иоганнес, — этот маленький шедевр ты… нашла в Дрездене?
— В Дрездене? — переспросила она с удивленным видом, словно сам вопрос или название города озадачили ее. Потом, казалось, вспомнила: — A-а, Дрезден… — Она опустила взгляд на правую руку, державшую стакан. — Нет, — сказала она. — Здесь. Я нашла ее здесь… Ты никогда не пьешь спиртных напитков? — перевела она разговор на другую тему. — Только фруктовый сок или воду?
— Да, ты прекрасно это знаешь. Мы с Паулой стремимся к воздержанности во всем: ни спиртных напитков, ни табака, никогда никаких излишеств…
— Правда никогда?
— Да, никогда. К чему бы мне врать?
Она пронзила его тяжелым взглядом.
— Но время от времени ты ведь делаешь кое-что, выходящее за эти рамки, не правда ли?
— Нет, можно сказать, никогда!
— Но зачем же столько лишений? Чего ради?
— Дорогая, это же очевидно: ради того, чтобы лучше жить. Мы с Паулой превыше всего хотим сохранить нерастраченными наши способности, во всяком случае то, чем наделила нас природа. Духовная жизнь для нас теперь важнее, чем все остальное… Почему ты так на меня смотришь? Не веришь мне или считаешь, что это притворство?
— Нет, я тебе верю. Духовная жизнь, — повторила она раздумчиво, словно пытаясь запечатлеть эти слова в своем сознании. — Великолепно! В общем, вы счастливы вместе, ты и Паула?
— Да, мне кажется, я могу утверждать это.
Лисбет несколько секунд молчала, глаза ее горели. Потом мягким тоном, но четко выговаривая каждый слог, она спросила:
— Если духовная жизнь — главное и ты абсолютно счастлив с Паулой, зачем же тогда Банхофштрассе?
Иоганнес не вскочил. Лишь чуть сжал челюсти и тут же овладел собой. Они смотрели друг на друга: она — ожидая его реакции, он — в нерешительности, возможно обдумывая, как ему поступить — уйти от разговора или принять вызов… Обычно полицейские стараются заставить вас поверить, будто у них есть доказательства, будто они знают все, и таким образом склоняют подозреваемого к признанию — классическая техника допросов. Иоганнес выбрал среднее — проволочку.
— Теперь моя очередь спросить тебя: при чем тут Банхофштрассе? Почему вдруг ты вспомнила эту улицу?
Читать дальше