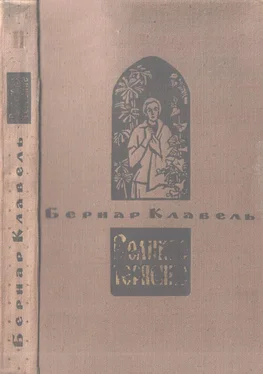Когда отец занимался чем-нибудь в саду или в сарае, работа почему-то не спорилась. Он бросал ее и начинал другую. Мать ходила из кухни в погреб, из сада на улицу, и ей тоже никак не удавалось довести до конца то, что она задумала сделать.
Дни стояли очень жаркие. Солнце пекло. Листья желтели, цветы в саду днем никли и оживали только ночью. Были и другие дни, хоть и без солнца, но очень томительные; зной, как расплавленный металл, струился на землю с затянутого маревом низко нависшего неба. Даже дождь не освежал. Земля курилась. Из-за испарений, исходивших от нее, тяжело было дышать.
Когда отец прерывал на несколько минут работу и шел отдохнуть на скамейку возле дома, он долго обтирал пот с лица.
— Не пойму, что со мной… — удивлялся он. — Не пойму… Никогда прежде не было со мной такого.
— Отдохни, — говорила мать, — ты устал, вымотался, работая по ночам в булочной. Ты отвык от такой работы, да и годы уже не те.
— Что ты, тогда я себя лучше, чем сейчас, чувствовал. Нет, это не усталость. Устать я не мог, ведь я целый день ничего не делал. Не пойму… Просто не пойму, что со мной.
Почти все соседи уехали. Время от времени стариков Дюбуа навещали Робен и мадемуазель Марта, но они оба уже опять ходили на службу.
Когда кто-нибудь приносил новости, мать слушала. Сама она молчала. Отец иногда задавал два-три вопроса, но обычно довольствовался тем, что ему рассказывали. А потом мать неизменно спрашивала:
— А молодых, которые уехали, это касается? Вы что-нибудь слышали?
Разговоры о пленных тоже волновали ее.
— Не знаете, они берут в плен только солдат или и других тоже? Они не угоняют молодежь призывного возраста?
Как-то утром, отправившись за покупками, она увидела на площади Лекурба четыре немецких грузовика. Их охраняли часовые в касках и с винтовками. Под брезентом чуть виднелись чьи-то лица; чьи-то руки старались раздвинуть зеленые с коричневым полотнища, делали какие-то знаки. В нескольких шагах от часовых держалась группа французов. Мать подошла ближе.
— Кто там? — спросила она.
— Пленные, их везут в Германию.
— Солдаты?
— Кажется, да, но, кажется, есть и штатские.
Мать не знала никого из толпившихся здесь любопытных. Она постояла, походила, обошла вокруг грузовиков, держась на почтительном расстоянии от часовых, затем вернулась к группе французов. Отыскала того, с кем перед этим разговаривала, и спросила:
— А поговорить с пленными они нам позволят?
— Не думаю. Попробуйте, тогда сами увидите.
Говоривший был высокого роста, широкоплечий. Он наклонился, отвечая ей. Вдруг он рассмеялся:
— Вас они, во всяком случае, не заберут, в гренадеры вы не годитесь — ростом не вышли.
Она улыбнулась и отошла. Ей надо было подумать. Но она не могла. Она разглядывала часовых, всех по очереди, смотрела на грузовики, старалась увидеть хоть кого-нибудь из пленных, но брезент был крепко привязан и увидеть удавалось только глаз, или краешек куртки, или чьи-то пальцы.
Человек, говоривший с матерью, подошел к ней.
— Вы, верно, хотите справиться о ком-нибудь из близких?
Она пожала плечами:
— Я знаю, это глупо, но что поделаешь, все же хочется попытать счастья.
— Спросите кого-нибудь из охраны, может, разрешит.
Она помолчала и только потом призналась:
— Я боюсь.
— Чем вы рискуете?
— Сама не знаю.
— Абсолютно ничем.
— Но тут стоят люди, они увидят…
Он улыбнулся и спросил:
— Вы, должно быть, хотите справиться о сыне?
— Да.
— Это никого не касается. А знаете, ради сына…
Он не закончил.
— Вы думаете, они поймут, если я обращусь к ним по-французски?
— Попробуйте.
От нее до ближайшего часового было пять-шесть метров, не больше. Немец, человек лет тридцати, длинный и худой, чуть сутулый, в слишком большой по его голове каске — отчего лицо казалось очень маленьким, — уставился пустым взглядом в пространство.
— Ступайте, ступайте, — повторил мужчина. — Вон, смотрите, тот — дядя-достань-воробушка — как будто славный парень.
У матери подкашивались ноги. Вначале, узнав, что это пленные, которых везут в Германию, она просто подумала: раз они едут с юга, может, кто случайно знает что-нибудь о Жюльене. Теперь она больше не раздумывала. Кровь стучала в висках, в ушах звенело, и сквозь этот шум, заглушавший звуки улицы, какой-то голос твердил: «Жюльен там, в одном из грузовиков. Он тебя видит. Это он кричит. Они кричат все сразу, а ты слишком взволнована и потому не можешь различить его голос, но он кричит. Наверняка, кричит. Он там, он тебя видел. Он зовет тебя: «Мама! Мама!»
Читать дальше