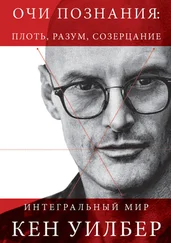— Когда у тебя встреча?
— Тогда же, когда митинг Эрика.
— Но я же не сказал тебе, когда он начнется, — съязвил я. Мне показалось, что теперь ей нечем крыть.
— Он наверняка состоится во второй половине дня — они всегда начинаются чуть после двенадцати. Сам-то он никогда не встает раньше полудня.
Это была правда. Эрик, как и Грег, был известен своим ночным образом жизни. Если бы вам захотелось вдруг увидеть рассерженного марксиста, вам достаточно было бы постучать в дверь Эрика, когда наступало время завтрака. Миссис Пост, как и подобает ранней пташке, презирала утренних сонь, имела обыкновение в девять утра извещать Эрика о кафедральных совещаниях, и дело кончилось тем, что Эрик стал на ночь снимать трубку с рычага. С другой стороны, если мне не спалось ночью, достаточно было выглянуть на задний двор и посмотреть на апартаменты Эрика. Там неизменно светились два ярких желтых прямоугольника окон, задернутых жалюзи. Окна Эрика придавали неизъяснимую теплоту безбожной беспощадности ночных часов.
— Ты просто не любишь Эрика, — произнес я.
— А кто его любит?
— Да, конечно, никто, но суть не в этом. Дело действительно важное, и люди должны показать свое к нему отношение.
— Что там случилось на этот раз?
— Восстание в Сальвадоре.
Сьюзен прикусила губу, это был знак, что она колеблется. Я просто физически чувствовал, как она взвешивает на весах мусор на дорогах и размахивающих мачете революционеров. Потом она стала мысленно прикидывать, что ей надеть.
— Ладно, — сказала она наконец, — но ты за это должен будешь повести меня в кафе.
— Договорились.
Выход в кафе обычно означал жареную рыбу, так как Сьюзен из-за запаха никогда не готовила рыбу дома. Обычно мы ходили есть рыбу один раз в месяц.
Закончив дискуссию, мы разошлись. Сьюзен отправилась звонить главе комитета миссис Споффорд, я же пошел в кабинет поработать. Во всяком случае, я честно собирался работать. Некоторое время я сидел перед компьютером, не притрагиваясь к клавишам. Потом подобрал статьи с критикой Джойса, но не прочел в них ни строчки. Из-за стены не доносилось ни звука. Я стал думать о тишине. Я стал думать об одиночестве. О частях, представляющих другие части. По неведомой причине мне вдруг представились ласкающие меня руки.
Руки были женские, мягкие и белые, мне было уютно и приятно от их ласк. Руки легли мне на плечи, как руки музы, решившей поговорить со мной по душам. Потом руки заскользили вниз, прошлись по груди и вскоре оказались в паху. Они гладили и нежно мяли мою плоть. Постепенно руки стали моими собственными, и я принялся делать то, чего не делал уже давно, — я занялся онанизмом в носовой платок, который извлек из ящика стола. Я не вполне понимал, на чей образ я мастурбирую, но это точно не была моя жена.
Сьюзен уже спала, когда я наконец отказался от попыток работать. Мне захотелось посмотреть на ее руки, но они оказались спрятанными под простыней. Я тихо разделся и лег. Я лежал, вытянув руки по швам, понимая, что сегодня засну не скоро. Праздно, как человек, который всю жизнь только собирается путешествовать, думает о поездке друга за границу, я подумал: интересно, чем занимается сейчас Макс?
Самая унылая пора Оксфордской площади, два часа пополудни, суббота, ноябрь месяц. Никакого движения, никакой суеты; большинство перелетных птиц уже улетели на побережье, половина студентов сидит по общежитиям и библиотекам, готовясь к промежуточным зачетам, а половина уехала в Арканзас, на матч «Бунтарей» «Оле Мисс» с арканзасским «Лезвием бритвы». В универмаге Карлсона были заняты распродажами — после Хеллоуина и перед Рождеством. Даже погода проявляла свойства чистилища: с одной стороны выглядывало солнце, а с другой — нависали свинцовые тучи. Посреди всей этой половинчатости и нерешительности Эрик с мегафоном в руках взобрался на пьедестал памятника конфедерату, собираясь произнести зажигательную речь перед толпой из десятка человек.
Большинство этих людей разделяли взгляды Эрика. Среди них были преподаватели юридического факультета. Это не очень нравилось Эрику, ибо какой толк проповедовать уже обращенным? Листовки, которые он пытался распространять в Студенческом союзе, шли плохо. Эрик обвинял студентов в апатии, но это было не совсем честно, так как дело было не в том, что студентов ничего не интересовало, а в том, что их не интересовало то, что делал Эрик. Он мог бы с равным успехом обвинить дружбу в том, что она заставляет многих из нас притворяться, когда нам, в сущности, нет никакого дела до других. Именно по этой причине я и остаюсь аполитичным. Жизнь — достаточно запутанная вещь и без политических пристрастий, пересекающихся с нашими личными делами.
Читать дальше
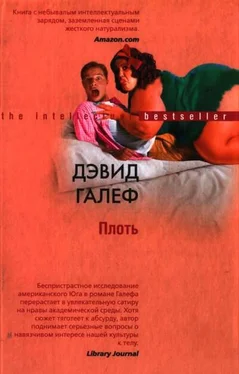
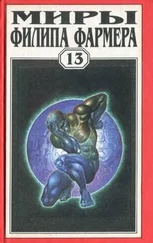



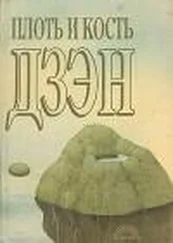
![Ричард Пратер - Распятая плоть [= Кинжал из плоти, Плоть как кинжал]](/books/321533/richard-prater-raspyataya-plot-kinzhal-iz-ploti-p-thumb.webp)