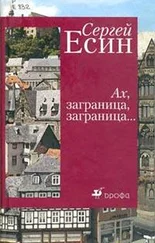— Только что я подписал акт о снятии целой партии сырья с производства.
— Вот и прекрасно, пусть отвечают химики, через арбитраж мы наложим на них штраф.
— Это правильно, — говорю я, — штраф мы получим. Но основные производственные цеха мы остановим на несколько недель, потому что, кроме последней партии пленки, у нас других резервов нет. Фабрика не выполнит плана, а коллектив, весь коллектив не получит прогрессивки.
Директор взялся за затылок! Походил по кабинету и говорит:
— Ну, а из этой пленки продукция пойдет…
— …со смертельным браком? Вы это у меня хотели спросить?
— А вы откуда догадались?
— До вас в этом кабинете мне этот вопрос задавали раз сорок.
— Ну, а потом?
— А потом говорили, что продукцию этой партии надо реализовывать где-нибудь подальше, за Уральским хребтом.
— Но ведь и я родился за Уральским хребтом.
— Вот вас-то и будут земляки вспоминать, — расхрабрился я.
— И так всегда продукция и реализовывалась?
— Это в зависимости от возможностей. Но за географическим рубежом всегда: или за Уральским хребтом, или за Сырдарьей, или за Обью. Ближе Нарьян-Мара не реализовывалась никогда.
— Подождите, Игорь Константинович, не торопитесь. Не выпить ли нам чаю?
— Отчего же не выпить, — говорю, а сам думаю: здесь новая метода, придется подписывать удовлетворительное, стандартное качество партии уже после чая. Будет ли только спрашивать про родных?
Похлебали мы чай, и тут меня новый директор спрашивает:
— Ну а сами вы, Игорь Константинович, что на сей счет думаете?
Первый раз в жизни я набрался храбрости.
— Я думаю, — говорю, — что это безобразие. Это всех растлевает: и химиков, которые могут прислать, зная наши сложности с сырьем, плохую пленку; их лабораторию, которая сделала плохую пленку — сначала сварила, а потом прокатала; нашу лабораторию, которая сделала точный анализ, а мы их сигналом пренебрегли; наш цех печати, который будет работать с пленкой, на которой хорошего качества звучания не добиться; наши художественные отделы, которые могут подумать, что отличное качество оригиналов необязательно, потому что все равно хорошего звучания на этой пленке не получишь. Меня это развращает, потому что я не нужен, потому что во имя ложно понятой части коллектива и прогрессивки для него вы сейчас попросите снять с пленки мое вето. Ведь попросите? Вам ведь не хочется начинать работу с того, что фабрика не даст плана, а народ не получит прогрессивки?
— Не хочется. А ведь начинать надо?
— Надо.
— Ну так начнем?..
Наверное, этот случай «развязал» меня, как актера, который раз в жизни, в минуту вдохновения сыграв хорошую роль, вдруг впервые ощущает себя хорошим актером. Впервые я ощутил себя человеком. Разве когда-то трусом был я? Разве мне когда-то не хватало грамотешки? Если у человека есть что сказать, он скажет. Чтобы сказать, надо просто искренне стараться сказать. Выкорчевать из себя «удобное» молчание, за которым лишь трусость.
Уже через час после моей беседы с директором в цехах стало известно, что через два дня машины встанут. Вроде бы без дела, так, поболтать стали заходить ко мне начальники производств. В их глазах читал я недоуменные вопросы: дескать, что же ты, Игорь Константинович, нас подвел, дескать, что же ты не уважаешь коллектив? За что? Разве мы плохие товарищи? Но люди это все были скромные, деликатные, прямо не высказывались. Своеобразно отреагировала лишь Констанция Михайловна. Демонстративно, размашисто она вошла в мою комнату, когда там было полно людей, резко остановилась напротив меня, всплеснула браслетами и кольцами на прокуренных руках, от резкой остановки огромные цыганские сережки в ее ушах качнулись, как маятники, и вперила в меня театральный взгляд. Я опустил глаза, внезапно покраснел, но новое бесстрашное чувство уже жило во мне. Как же мне хотелось провалиться сквозь землю, исчезнуть, испариться из комнаты! И все же я поднял глаза и, как выстрел, взглянул, не мигая, в глаза Констанции Михайловны. Я видел, как под микроскопом, неровную, студенистую структуру ее зрачков. И пока я смотрел ей в глаза, то крошечное пламя смелости, которое вспыхнуло в душе в кабинете директора, разгоралось все сильнее и сильнее, будто бы кто-то подпитывал его ацетиленом. Это было как в школе — игра в гляделки. Сколько прошло времени — две секунды или минута? Но я ее переглядел. Так же резко Констанция Михайловна повернулась на каблуках, маятники в ее ушах качнулись, хлопнула дверь, она ушла. И сразу же от этой второй маленькой победы над собой, случившейся в один день, оттого, что я не стал заискивать перед товарищами, не искал у них сочувствия, предлагая войти в мое положение, не бормотал жалких слов, что дружба, дескать, дружбой, а служба службой, работа есть работа, а поступил, как мне подсказала совесть, и сумел в молчаливой борьбе, не каясь, отстоять свое решение, — сразу же я будто распрямился и почувствовал остроту сладостного чувства жить теперь только так, прямо, твердо и последовательно.
Читать дальше