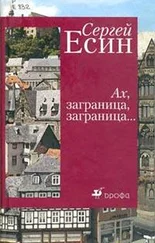Переговорив по телефону, директор, как и прежде переваливаясь на плохо гнущихся ногах, вернулся к столику, и лицо его опять было добрым и приветливым.
— Так на чем мы остановились, матушка Гортензия Степановна?
— Почему вы так жестоки со мною, Георгий Юрьевич, — слез не было, недаром телевизионные комментаторши сродни актрисам, наличествовало легкое тремоло всхлипа, который по желанию можно было перевести в бархат умилительных интонаций и в рыдания, — мы ведь с вами почти ровесники!..
— Ну что вы, какие ровесники, дедушка я, на двадцать лет старше вас. — Директор снова, как аккумулятор, подкопив внутреннего тепла и мягкости, улыбнулся на пределе доброжелательности. — Но ведь я, дорогая, не появляюсь через день на телеэкране.
— Почему вы так жестоки ко мне!
— Я ведь, Гортензия Степановна, дорогая, — голос у директора подобрался до уровня домашнего пафоса, — защищаю интересы телезрителей, а не только ваши. Я чувствую, у вас крутится на язычке: «Сам яблоки выращивать не идет, а меня посылает». Так вот, здесь есть определенная разница: я — это «я», а вы — это «вы» и ваши интересы.
— Свои интересы, — вспылила Гортензия Степановна, решив показать своему бывшему соратнику зубки, — я буду защищать сама.
— Не горячитесь, Гортензия Степановна. Организуем мы вам персональную пенсию, проводим коллективно, как ветерана, будете по старой памяти приходить ко мне в гости пить чай и давать советы. Подумайте дня три, хорошо?
— Хорошо, — произнесла Гортензия Степановна со значением. И злорадно подумала: «Посмотрим — кто кого. Посмотрим, кому будет хорошо».
В кабинете у директора Гортензия Степановна еще не осознала, чем ей грозит уход на пенсию. Просто в ней проснулось чувство защитного противоречия: если ее место забирают, значит, отдавать нельзя. Но уже вскоре, когда представила, что должна будет лишиться всех маленьких, но чувствительных для души благ, престижных появлений на вернисажах, заискивающих улыбок художников, возможности купить себе по себестоимости в Доме моделей новое платьице, да и просто того, что ее узнают на улицах, в аптеке, в обувной мастерской, в булочной — ведь пройдет год, другой — и забудут, увлеченные новым кумиром! — и когда она представила себе, что лишится всего того, что она со своими средними способностями добивалась всю жизнь, тут ей стало по-настоящему обидно.
Уже давно ей стало казаться, что работа дорожит ею. Когда из ее репортажа начальство вырубало несколько фраз, она устраивала истерики в кабинетах, ее отпаивали, она кричала, что завтра же подаст заявление об уходе, что не может работать в организации, где не дорожат устремлениями интеллигенции, она кричала, что не выйдет в эфир, ее уговаривали, приносили стакан с водой или рюмку с валерианкой, она давала себя уговорить, пудрила нос, рисовала брови и выходила в эфир, тонко и интеллигентно улыбаясь, говорила все, как надо и что надо. И вот теперь она всего этого может лишиться. Она подумала также, что на сто двадцать рублей пенсии ей будет тяжело одеваться и жить, как она привыкла, но это ее мучило меньше. Больше всего ее волновала мысль: а чем она будет заниматься ? Ведь она так привыкла к той суете и мельтешению, которые составляли часть ее работы, принимать за саму работу и за свою внутреннюю жизнь. Чем она на пенсии заполнит дни?
Волну общественного возмущения, о которой она мстительно думала в кабинете директора, организовать оказалось не так легко. Знаменитые художники, что ходили в почитателях ее объективного и бойкого таланта и на которых она решительно надеялась, в последнюю минуту скисли, неуклюже сославшись на различные причины. Но все же несколько легковозбудимых слабаков по телефону прорвались к директору через секретарш и принесли ему свои косноязычные демарши, которые явно директора не сломили.
Гортензия Степановна попыталась организовать новую волну, толкнулась в одни двери, в другие, и в этих хлопотах как-то немножко поостыла и начала свыкаться с необходимостью сворачивать свою общественную деятельность. Видимо, на эту реакцию и рассчитывал опытный директор, за свою жизнь обламывавший и не такие характеры. По крайней мере, когда через три дня в телефонной трубке раздался его воркующий, похохатывающий начальственный басок, то Гортензия Степановна слушала его внимательно и гнев уже не бросался ей в голову, лишая способности думать и выбирать. Директор определенно был специалистом по человеческой душе и знал, за какую ниточку потянуть.
Читать дальше