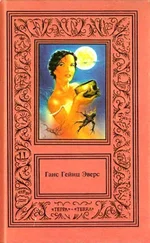Юный мусарник сам не заметил, что указывает пальцем на Махазе-Аврома, так он кипел и горел огнем реб Цемаха, говорил на его языке и с его жестикуляцией. Он даже представления не имел, кого имел в виду директор ешивы. Ему просто нравилось это кипение и горение, умение извлечь и поднять душевные силы человека.
— Когда, говоришь, ваш директор ешивы проводил эту беседу? — спросил реб Авром-Шая, и лицо его пошло красными пятнами.
— Позавчера он провел эту беседу, через день после того, как вы посетили ешиву, — с пылом ответил Хайкл и еще больше загорелся, заговорил, размахивая обеими руками: — Намедни реб Цемах провел глубокую беседу о вере. Как бы плохо мы ни думали о еретике, он сказал, что еретик все-таки не такое ничтожество, которое недостойно называться человеком, он не так ничтожен и мелок, как сластолюбец, которому нужен Бог, чтобы получать удовольствие от греха. Такой сластолюбец не получал бы удовольствие от этого мира, если бы не верил, что есть и тот свет. Когда он грешит, он дрожит от страха, как бы ему не потерять свою долю на том свете, но он утешает себя тем, что еще выкрутится, еще все исправит, что, мол, ничего страшного, он еще покается. А когда он кается, он получает большое наслаждение от того, что кается, и наслаждается даже тем, что проливает при этом грязные слезы. Сластолюбец получает наслаждение и от того, что постится. Он даже доволен тем, что его будут пытать на том свете, лишь бы у него не отобрали надежду, что после того, как он получит полагающееся ему число ударов палками и другие наказания, он все-таки урвет кусок мяса шорабора [220] Гигантский шорабор (дикий бык — древнееврейск. ), согласно традиции, будет съеден во время трапезы праведников в раю после прихода Мессии.
, глотнет старого вина [221] Яин а-мешумор ( древнееврейск. ) — один из атрибутов трапезы праведников в раю после прихода Мессии.
…
— Хватит! У меня сил больше нет! — неожиданно крикнул реб Авром-Шая с болезненной резкостью и сразу же рассмеялся тихим, печальным смехом.
Он прикрыл глаза и подумал: «Этот реб Цемах Атлас, гордый, прямой, с заостренным умом, несомненно, сломленный человек. Он мучает себя и делает горькой жизнь других, потому что ему не хватает веры. Но он мучает себя мысленно, чтобы никто не узнал; в беседах с учениками он не выдает своих сомнений. Во всяком случае, попытка удалить его из ешивы, которую он основал, может, не дай Бог, убить его. Однако доверить ему управлять местом, где изучают Тору, нельзя. Реб Менахем-Мендл должен остаться вместе с ним. Этот реб Менахем-Мендл настолько наивен, что, кажется, совсем не понимает, каков его товарищ».
— Ты сказал мне, Хайкл, что, когда прежний валкеникский раввин уезжал в Эрец-Исраэль, старые обыватели сильно плакали, и ты понял, что есть какая-то тайна, которую люди узнают только на старости лет. Так вот, поскольку я намного старше тебя, я открою тебе эту тайну, — заговорил Махазе-Авром со странно сияющими счастливыми глазами. — Эти обыватели плакали от большой любви к Торе, от горя, что уезжает ребе, изучавший с ними Тору. Ты, конечно, видел евреев, обливающихся слезами на похоронах или во время надгробной речи, когда хоронят большого знатока Торы, хотя они никогда его не знали, а он умер глубоким стариком, иной раз за восемьдесят, а то и за девяносто. Эти евреи плачут от любви к Торе. Евреи любят сидящего в шатре Торы, непорочного человека, который сидит и изучает Тору, а не того, кто им строго выговаривает. Не все, что мы знаем о каком-либо человеке, мы должны ему говорить.
Реб Авром-Шая поправил подушку в головах и вытянулся на спине, утомленный долгим разговором.
— Твой глава ешивы реб Менахем-Мендл послал тебя ко мне с поручением. Передай ему от моего имени, что пусть остается, как он того желает и как было до сих пор. «Лучше сиди и ничего не делай», — сказал он по-древнееврейски словами талмудических мудрецов. — Так ему и передай. Запомнишь?
— Запомню, — ответил Хайкл. Он помнит целые куски философии из третьей части «Море невухим» и много страниц Гемары. Так разве же он не запомнит пары слов? Само дело, о котором спрашивал реб Менахем-Мендл, и значение ответа совсем его не интересовали.
— Любишь купаться? — спросил реб Авром-Шая.
— Да, но сейчас вода слишком холодная.
— Когда вода станет теплее, приходи ко мне около часу дня. Мы вместе пойдем купаться. Сейчас иди, я уже устал.
На обратной дороге через лес Хайкл больше не приходил в восторг от деревьев, не искал красных ягод земляники в низкой зеленой траве, не слушал пения птиц. Он думал о ребе со смолокурни и о том, что он действительно прав, говоря, что евреи любят Тору. Хайкл не раз видел, как невежи и блатные парни с Мясницкой улицы с почтением уступали дорогу изучающему Тору еврею; как крикливые торговки делали набожные лица, увидев, что мимо них проходит еврей в раввинском лапсердаке. Зимними вечерами в синагоге сидели над святыми книгами старики и разговаривали о мудрецах Торы. Хотя он и не любил этих старых обывателей из синагоги реб Шоелки за то, что они относились к нему с пренебрежением и злобой из-за его отца-просвещенца, он прислушивался к их речам о гениях и к их волшебным сказкам о скрытых праведниках. Этот священный трепет перед Торой седобородых евреев в очках в медной оправе и с колючей щетиной в носу, их шепот и их набожные гримасы сплетались в памяти Хайкла с тенями висячих светильников и с золотисто-тусклым огоньком неугасимой лампады, горевшей над ковчегом у темной восточной стены, как будто солнце вдруг взошло посреди ночи… Теперь Хайкл ощутил в своей встрече с Махазе-Авромом те радость и простоту, которые ощущал когда-то в шушуканье старых обывателей о каком-нибудь великом мудреце Торы.
Читать дальше