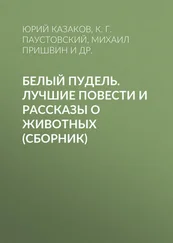Было ровно семь часов. Левка вынул из кармана нож и бережно срезал веточку ивы. «На память», — решил он. Потом он вынул расческу, причесал всклокоченные волосы и, нагреваясь на ходу, быстро зашагал к близким огонькам приречной деревушки.
Видятся те годы, как дно прозрачного ручья. Каждый камушек, каждое растеньице видны, но рябит струя, и вроде не отчетливы они, а иногда и совсем расплывутся их очертания. Но вдруг ударит в ручей луч солнца и станет все четко очерченным и ярким. Так и» память о тех годах.
Быка звали Бурзик. Был он ярославской породы, черный, с белыми очками на морде. А нрава был не ярославского, а, скорей, восточного: задумчивый и медлительный, но в то же время коварный и чрезвычайно упрямый.
Это был бык не из тех спокойных степных волов, что привыкают к ярму с детства, а из тех, кого поставила в упряжь послевоенная нехватка лошадей. И не зная исторических особенностей текущего момента, не будучи морально подготовленным, не представляя всех сложностей военной и послевоенной поры, он никак не мог примириться со своей новой ролью тягловой силы, считал себя несправедливо обиженным, тяжело оскорбленным.
А глубокая повозка, которую в наших местах называют «андрец», скрипела, вздрагивала и грозила развалиться при каждом его шаге.
В андреце сидел я и не понукал Бурзика, потому что это было бесполезно. День был осенний, чистый, с широкими далями и нежарким солнцем. Через дорогу летела паутина, слева в перелесках падали пока еще отдельные листья, справа открывалось поле картошки по скату и далекая река. А дорога была суха, песчана, и колеса увязали в ней, оставляя резкую колею.
Отец еще не приехал, сдавал дела на другой работе, в другом месте. Болела мать. И был я большим хозяином в своих неполных тринадцать.
На лошадях я езживал и раньше, а на быке впервые. И конюх Венька, хвастун и пьяница, когда запрягал мне его, сказал:
— Ты его не понукай. Заупрямится — хуже будет. Ты, если чего, терпи. В общем, терпи и жди, и все тут.
И вот мы скрипели осями, колесами, всеми частями андреца к дальнему лесу, по дрова.
Дрова там были, в лесу. Как раз по моей силе. Тонкие ольшинки, пролысенные вовремя, а потому просохшие, сложенные в костер. Нет ничего хуже сырых ольховых дров, нет ничего дороже сухих. «Царские дрова», — говорят про них. И не тяжелы были они, поэтому погрузка не составляла труда даже для меня, истощенного и слабосильного в этот год.
Бурзик вступил на просеку, и огненный лист лег ему на черный блестящий крестец. В лесу было тихо до звона в ушах, и только мы, двигаясь по просеке, вламывались в тишину, да какая-то птичка размеренно тенькала, словно падали на звонкую поверхность капли воды.
Так, шаг за шагом, мы добрались до костра наших ольшин, и я, поставив Бурзика мордой на выход из леса, начал укладывать в андрец ольшины, от которых исходил еле уловимый горьковатый запах.
Воз я наложил порядочный. Кое-как увязал его и прикрикнул на быка.
И Бурзик пошел. Вернее, рванул с места и кинулся по просеке, словно позади него не было никакого воза. Я бежал рядом с андрецом, натягивая вожжи из последних сил, но остановить быка было невозможно.
Бурзик свернул в боковую полузаросшую просеку и трещал сучками и кустами. Розовые, красные, палевые, лимонные листья взметывались за нами вихрем, точно по просеке пронесся ураган. Я сторонился от веток, прыгал через колоды, не выпуская вожжей, и думал только об одном, чтобы не вылетел шкворень: в таком случае я бы не смог натащить андрец на передок.
В небольшой ложбине бык вдруг остановился и, ходя боками, попил из ручья. А потом с полным спокойствием послушался вожжей, и мы потихоньку выбрались на главную просеку. Я сел на воз, и бык поплелся из леса, к дому.
Поскрипывала повозка, бык шагал мерно, а я смотрел на осенние дали и радовался, что все окончилось благополучно.
И вдруг, когда до дому оставалось не более километра, на середине большой песчаной дороги, на самом верху увала, откуда предстоял спуск в лощину, бык мотнул головой и встал. Затем подумал немного, свесив лобастую голову, и лег.
Автомашины были тогда в наших местах редкостью, и никому дороги мы не загораживали. Но надо же было ехать! Я засуетился возле быка, лупил его хворостиной, но Бурзик даже головой не мотал. Я пробовал поднять его за упряжь — куда там! Тогда я вспомнил жестокое правило: надо крутить хвост. Кое-как вытащив из-под туловища довольно грязный хвост, я стал крутить его, но силенки не хватало. Неожиданно хвост вырвался из рук, и его жесткая метелка больно мазнула меня по лицу.
Читать дальше

![Леонид Фролов - Жемчуг северных рек [Рассказы и повесть]](/books/28036/leonid-frolov-zhemchug-severnyh-rek-rasskazy-i-pove-thumb.webp)



![Леонид Воробьев - Конец нового дома [Рассказы]](/books/418575/leonid-vorobev-konec-novogo-doma-rasskazy-thumb.webp)
![Евгений Воробьев - Тринадцатый лыжник [Рассказы]](/books/425269/evgenij-vorobev-trinadcatyj-lyzhnik-rasskazy-thumb.webp)
![Евгений Воробьев - Нет ничего дороже [Рассказы]](/books/426767/evgenij-vorobev-net-nichego-dorozhe-rasskazy-thumb.webp)