Ленька смеется и за себя, и за своего друга Андрюшку. Он даже объясняет за Андрюшку, что они нашли такого смешного. Они всегда вместе.
Да и Купчинкин… Чем больше он делал глупостей, тем больше Маше приходилось заступаться за него и перед начальницей, и перед ребятами, и тем больше она его любила. И тем преданней он был.
С девочками сложнее. Двенадцатилетние девочки — это совсем не то что мальчики того же возраста. Они куда более развиты физически, хитрее, скрытнее. Маше даже казалось, что они что-то понимают гораздо больше, чем она сама. По крайней мере, с ними надо было держать ухо востро. Они всегда замечали, если она плохо причесана или неаккуратно одета. Их разговоры, которые она слышала из своей клетушки, нередко сводились к любви, к прическам, к обсуждению чьей-то внешности.
Не раз Маша слышала даже обсуждение своих отношений с Виктором Михалычем. Гадали: любовь у них или так просто. Кажется, все они, сами того не сознавая, были немножко влюблены в Виктора Михалыча.
Но, даже слыша все их разговоры, пользуясь, казалось бы, их любовью, она не могла сказать с уверенностью, что знает их так же, как мальчиков. Да, они затихали, когда она входила к ним в спальню и приказывала спать, да, они не лезли на железнодорожные пути, не теряли трусов и сандалий, беспрекословно несли на себе груз общественной работы (занимали все руководящие должности), но особого контакта с ними у Маши не получалось.
Были, правда, две любимицы: вечно растрепанная «поэтесса» Верка Сучкова, живущая вне времени и пространства, и рыжая Нина Клейменова.
Верка как-то иначе, чем другие девочки, проходила пору девического созревания. Она была антиграциозна, антиженственна. Но Маше казалось, что если бы она осталась такой навсегда — она выросла бы в красавицы. Было что-то щемяще-трогательное в ее выпирающих коленках, в летящей походке, в резкости движений. Поэтессой она, конечно, не была. Это уж ее так дразнили. Просто Верка знала множество стихов и историй, умела рассказывать. Еще, наверное, ее любили за то, что она никогда не мучила своими любовными переживаниями: ведь это великое благо — иметь под рукой человека, который будет выслушивать тебя и не перебивать на каждом слове: «а вот у меня…»
В Верку был влюблен Купчинкин (он один из мальчиков так сильно жаждал любви), но почему именно в Верку — было непостижимо. Купчинкин, прямо сказать, был оригинален. Его ухаживания Верка принимала тяжело, швыряла в него персиками, которые он ей дарил, ломала полочки, которые он для нее выпиливал. И, как Маша подозревала, тоже была влюблена, но только в кого-то другого. При всей ее откровенности этого никто не знал. Кажется, в Верке была какая-то особая, не свойственная другим девочкам стыдливость.
Рыжая Нина Клейменова, наоборот, очень спокойна и неразговорчива. Она мало говорит и много делает: возится с кроликами в живом уголке, умеет делать из папье-маше кукол для кукольного театра, хорошо рисует. И, главное, ее слово, если уж она его произносит, всегда честное. Среди других, уже умудренных женскими уловками девчонок она кажется чуть ли не патологически честной и прямой. Высокая, большая и несуразная — она защитница всех обиженных и униженных.
— В глаз не хочешь? — говорит она Купчинкину, который, не добившись добром взаимности Верки Сучковой, пытается ее отлупить.
И даже глуповатый Купчинкин понимает, что Нина действительно может дать в глаз, наверняка даст в глаз.
— Чего ты, — бубнит он, — я ж только так…
Остальные девочки были для Маши пока что только неопределенным, разноцветным и изменчивым пятном. Она очень радовалась, когда Виктор Михалыч, освободившись от своих футбольных дел, брал девочек на себя. Им было, наверно, проще и приятнее с Виктором Михалычем, а Маша могла быть спокойна.
С Женькой Лобановым выход тоже вроде был найден. Внешне Маша ответила равнодушием на его полное равнодушие к себе. Он говорил:
— А я не хочу со всеми в лес.
— Хорошо, — отвечала Маша. — Пойди к Виктору Михайловичу и оставайся с ним в лагере. За территорию ни шагу, ясно?
— Ясно.
Надеяться на его слово, кажется, было можно.
Все готовились к дружинному сбору, пели.
— Я не умею петь. Можно, я пойду в библиотеку?
— Пожалуйста, — не моргнув глазом отвечала Маша.
— Мне неинтересно, когда вы читаете. Можно, я пойду играть в пинг-понг?
— Иди.
Все чаще замечала Маша, что лицо его при этом становится удивленным. Он как будто испытывал ее терпение. Но тут уж она была настороже. «Не доведешь», — сказала она себе. Чего-чего, а упрямства Маше всегда хватало. Он, кажется, поверил, что ей так же наплевать на него, как ему на нее.
Читать дальше
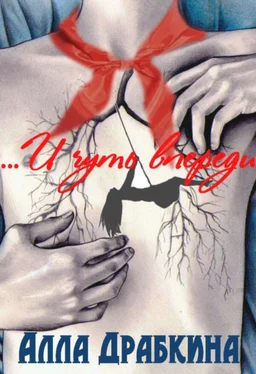
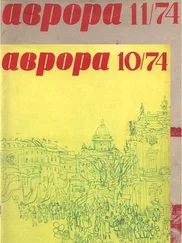






![Михаил Михеев - Шпага, магия и чуть-чуть удачи [litres]](/books/413477/mihail-miheev-shpaga-magiya-i-chut-thumb.webp)

