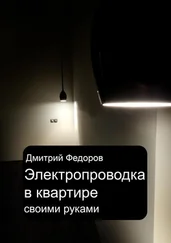— И много денег? — вскользь спросил парень.
— Хватит с меня. Да и тебя напоить могу.
— Так уж и напоить?
— Не веришь? — остановился Женька. — Пошли!
— Я не один, со мной приятель.
— И на него хватит, — хвастливо проговорил Женька и сделал широкий жест. — Пошли, всех угощаю!
— Ну что ж, пошли, — согласился новый знакомый и внимательно посмотрел на Женьку.
В ресторанном зале было почти пусто, только в углу за столиком сидела какая-то подвыпившая компания да три железнодорожника, видимо, только сменившиеся с дежурства, пили мутное пиво, закусывая копчёным лещом.
Свободных мест было сколько угодно, и Женька опустился на первый попавшийся стул.
— Леночка! — фамильярно окликнул новый Женькин знакомый молодую официантку, пересчитывающую у стойки дневную выручку. — Подойди к нам!
Держался он уверенно и просто, очевидно, был частым посетителем этого зала. Официантка кивнула головой, свернула деньги, сунула их в карман и подошла к ним.
— Сообрази-ка нам пятьсот грамм для пробы и лёгонькую закусочку: селедочку, винегрет, если есть, рыбку заливную, холодненькую.
— А поч-чему лёгкую? — взъерепенился вдруг Женька. — Хочу, чтоб всё было как следует. Где у вас меню?
Язык уже плохо подчинялся ему. В меню, отпечатанном на машинке, все буквы слились в серое пятно, но он всё-таки уловил название блюда, звучащего необычно, и удовлетворённо ткнул в него пальцем.
— В-вот, фри-икасе хочу!
Он громко икнул и уставился на официантку бессмысленными глазами.
— Ладно, — снисходительно улыбнулся новый знакомый. — Фрикасе так фрикасе. А вообще-то и верно, перекусить не мешает. Что у вас там сегодня из порционных?
— Пельмени и шницель натуральный, рубленый.
— Тогда три шницеля, только попроси на кухне, чтобы побыстрее. Ну, и ему фрикасе. Водку и закуску сейчас, а остальное потом.
Официантка оглянулась на буфет, наклонилась над столиком и негромко сказала:
— Распоряжение поступило — только по сто грамм на человека отпускать.
— Э-э, — небрежно отмахнулся парень, — этот приказ не про нас. Пусть, кто писал, тот его и соблюдает. А мы по сто грамм по второму заходу пить будем.
— Буфетчица не отпустит, — возразила официантка.
— Брось! Первый раз, что ли? Налей в два графина по двести пятьдесят, никто и не придерется. Да и придираться-то не к кому, зал-то совсем пустой.
Странное чувство овладело Женькой. Всё перед ним плыло, качалось, двигалось в каком-то непонятном хороводе, лица туманились и расплывались. Злость вдруг прошла, осталась только жалость к себе. Сладко щемило сердце, и хотелось плакать.
Неслышно подошла официантка, быстро и ловко расставила на столе бокалы, графины, тарелки с закуской и так же неслышно отошла.
— Ну, со знакомством, — повернулся к Женьке парень. — Тебя как зовут? Евгений? Женька, значит. А меня — Михаилом, Мишкой. Его вон, — кивнул он головой на своего приятеля, — Васькой.
Только теперь Женька заметил, что за столом их трое. Он посмотрел на Ваську — маловыразительное расплывшееся лицо подмигнуло ему.
— Твоё здоровье, Евгений!
Михаил поднял бокал и, прищурившись, посмотрел сквозь него на Женьку. Тот торопливо поднял свой. Звонко столкнулось стекло. Женька опрокинул водку, закашлялся и стал тыкать вилкой в ускользающую закуску.
Вторая порция водки застлала его глаза и мысли туманом. Всё дальнейшее он помнил плохо: что-то он ел, не понимая вкуса, мешая мясное со сладким, а сладкое с селедкой, кому-то объяснялся в любви и кого-то хотел поцеловать: не то официантку, не то Михаила; кому-то пытался объяснить разницу между стихами Блока и Есенина и исполнить романс Вертинского «Белая хризантема».
Потом он помнил, как уже где-то на улице ветер сорвал с него шапку и покатил по снегу. Мишка бросился её догонять, а он стоял, прислонившись к забору, и, смеясь, следил за неудачными попытками Михаила поймать его шапку. А затем снова провал в памяти.
Очнулся он утром и с удивлением увидел, что лежит в своей комнате на диване, заботливо укрытый одеялом. Женька сразу вспомнил и своё неудачное объяснение с Ниной, и то, как он застал мать с завучем, и выпивку в «забегаловке», и попойку в ресторане. Но как он пришёл домой и кто положил его на диван — этого он уже не помнил. Голова у него болела, во рту был противный привкус. Немного поташнивало, хотелось пить.
Взгляд его упал на одеяло, и болезненная улыбка скривила губы — мать свои грехи замазывает. Вчерашней злобы при мысли о матери уже не было, она сменилась чувством неопределённой брезгливости и горечи.
Читать дальше






![Кэт Мартин - Спроси свое сердце [Дуэль сердец]](/books/338332/ket-martin-sprosi-svoe-serdce-duel-serdec-thumb.webp)