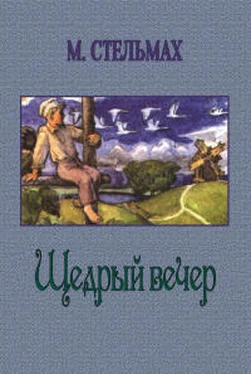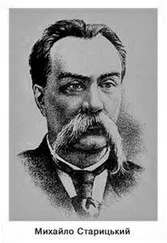Целое лето дед Данило живет на пасеке в лесах, а весь год пахнет вощиной, медом и травами. Он имеет очень хорошие, плачущие на морозе глаза, кроткую улыбку и чуть скорбные уста, на которых не собираются ни злоба, ни плохое слово. И такой он весь нарядный и опрятный, что мне сразу хочется куда–то запрятать свои руки.
— О, Михайлик, вишь, где мы встретились с тобой! — радуются дедовы глаза, и радуются слезинки в них. Он встает с саней, подходит ко мне и кладет большую руку на мою шапку. И даже от дедова кожуха веет не дубильней, а зельем. — Как ты, дитя, живешь?
— Хорошо, деда, живу.
— Оно и видно, — становится грустнее весенний цвет в глазах старого пчеловода. — А где же Обменную дели, что сам чешешь на ветряную мельницу?
— Ссуды притерли ей ногу. Есть же такие люди, что не имеют к скоту никакого понятия.
— На корову еще не разжились?
— Нет.
— Учишься же хорошо?
— Хорошо, деда.
— Слышал, что ты памятливый у нас. Учительница уши не крутит?
— Она у нас добрая.
— И все равно вам надо, хоть изредка, крутить уши, — от этого ум прибавляется в голове. Чего же ты ко мне летом на пасеку не приезжал? — перекладывает мой мешок в сани, а санки цепляет к рожну своих саней.
— Как–то так вышло, — сам удивляюсь, как я не заглянул на пасеку. — В новом году непременно приеду.
— Гляди же мне и считай, что новый год уже начался. Ты знаешь, как он начинается? — устраивает меня возле себя и пеньковыми вожжами трогает коней.
— Нет, не знаю.
— Может, рассказать, или ты не из интересующихся? — смеются и плачут дедовы глаза.
— Мама говорят: такой любопытный, что дальше уже некуда. Расскажите.
Дед Данило пускает в бороду и в усы такую улыбку, будто он немного насмехается сам над собой, и неторопливо начинает рассказывать:
— Вот когда зима обрывает с дней тепло, когда они становятся самыми короткими и холодными, тогда кузнец над кузнецами — сам Сварог — в своей кузнице кует новогоднее солнце, кует, не покладая рук, еще и присматривается, чтобы нигде не было окалины, потому что тогда летом не согреются ни люди, ни скот, ни деревья, ни растения. Он в этом знает толк и трудится на совесть. Вот выкует он солнце и зовет к себе великана Коляду. Приезжает Коляда, запряженный в свои сани, как ты в свои санки, кладет на них солнце и едет да едет, и едет да едет с ним до самого неба. Доедет до неба, к выстывшему солнечному жилью, поднимет сани, а солнце скок из них в свое жилище, а из него и выглянет к людям. Вот с этого дня и начинается новый год. Вишь, ты и не читал такого? — чувствуется насмешка в голосе старика.
И хоть я знаю, что это сказка, а все равно уже вижу в кузнице кузнеца над кузнецами Сварога, а возле самого неба встречаюсь с Колядой, помогаю ему поднимать сани с солнцем, еще и одним глазом заглядываю в то жилье, где живет солнце, — может, оно тоже имеет детей, так я с ними на каток побежал бы.
— Вот мы и приехали, — дед разрушает мое видение.
Я соскакиваю с саней и снова оказываюсь перед другой сказкой — перед поседевшими крыльями ветряной мельницы, которые напились солнца и отряхивают на землю слезы.
На ветряной мельнице сегодня большой заезд. Возле мешков и на мешках стоят и сидят крестьяне, а кое–кто на корточках греется у макитры с накаленным углем. Между земледельцами красуется в роскошной синей бекеше и седой смушковой шапке Юхрим Бабенко. И хоть ветер насквозь продувает ветряную мельницу, Юхрим не застегивает своей бекеши, — пусть все видят его австрийское галифе и английский френч, подпоясанный ремнем с ладонь шириной.
Юхрим таки добился своего: сначала начал работать в волости сборщиком налогов и, хотя люди прозвали его волосным сдирщиком, все равно как–то выскочил в уезд и работает там фининспектором. На новой службе он еще больше загордился, стал барином, но принялся меньше употреблять писарских слов — бросился к политическим. Теперь, говорят, к Юхриму поплыли грубые деньги, не столько чистые, как нечистые. На его свадьбе, рассказывали острословы, даже птичье молоко было, а оркестр приехал из Винницы и для хозяина играл только польку–бабочку. На службе зеленые Юхримовы глаза пожирнели, коржастые щеки подошли, утопили нос. Прицепи под него несколько волосинок — и кот котом. Я стою возле дверей, вбираю в ноги мягкое гудение ветряной мельницы, и мне кажется, что Юхрим вот–вот замурчит. От этой совсем ненужной мысли смех ну никак не может удержаться внутри. Я его давлю, придерживаю губами, а он прыскает и надувает мои щеки. Нет, видно, не выйдет из меня, как говорит дядька Владимир, вежливого ребенка, — пойду я в свой перчистый, веселогубый род.
Читать дальше