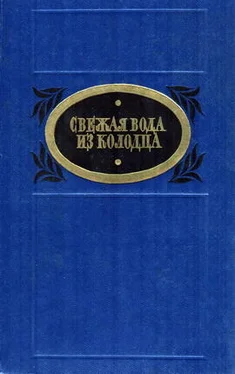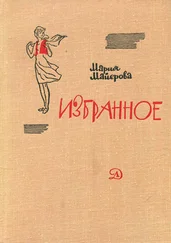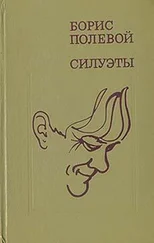— Скорей, еще не поздно!
Однако скоро поняли мы, что стараемся напрасно. Вода поднялась и перемычку нашу слизнула. Где ж незастывшим бетоном такую силу удержать! Тогда Кульков скомандовал:
— Все на-гора!
Стали нас наверх вытаскивать. А клеть восемь человек поднимает. Вода мне уже по пояс, а Кулькову — он росточка-то маленького — по грудь. Наконец, шлепнулась в воду последняя клеть. А нас девять человек. Кому-то, выходит, одному оставаться надо. Ну, мы — Стороженко и я — отошли прочь.
— Забойщик Стороженко и секретарь парткома Ильин, в клеть! — командует Кульков, именно командует.
Мы даже растерялись.
— А вы останетесь, да? Не сяду! — кричит Стороженко.
— Вы знаете, что значит аварийный приказ. Немедленно в клеть! — отвечает спокойно инженер.
Мы это знали. И пришлось подчиниться. Через минуту клеть пошла вверх. Внизу булькала вода. И где-то там один в этой воде остался человек. Понимаете наше состояние? Пока клеть опускали за инженером, Стороженко бегал вокруг ствола, как кошка у крысиной норы, а когда клеть поднялась, бросился прочь, пробился сквозь толпу, и до вечера его не видали.
А инженера я не узнал. Из клети его вывели под руки. Грязный, мокрый, зубы клацают. Постоял некоторое время над колодцем ствола, послушал, как внизу вода, прибывая, клокочет. Потом сел на землю, закрыл руками лицо, да так и сидел неподвижно до самой ночи.
Да-а. Тут сиди не сиди, а шахта затоплена. Первая шахта! Экспериментальная. Ну, работы остановили. Понаехали комиссии. Одни обвиняют инженера, дескать, рассчитал неправильно, другие — Стороженко, говорят, плохо бетонировал. А самое скверное — все сходятся на том, что шахту надо закрыть. В разговорах без протокола уж и довод появился — нигде в мире таких шахт не строят, стало быть невозможно. Ну, а под протокол, разумеется, другие доводы — расчеты, формулы, геология, физика, ссылки на разные заграничные авторитеты.
Потом приехал тот самый профессор, что был у нас вначале. Мы его лучшим другом нашего новорожденного бассейна считали, и очень мы на его заключение надеялись. Кулькова он знал по горному институту как своего ученика и к бассейну с восторгом относился. Он долго в делах копался. А потом и он развел руками — откачивать бесполезно. Шахта и озеро сейчас — два сообщающиеся сосуда. Ну-ка, осуши озеро. Словом, и он высказался если и не за полную ликвидацию дел, то за временную консервацию.
Ох, никогда не забыть мне этой самой консервации. Шахта заколочена. Каждый день под окном скрипят возы — наши горняки на станцию барахлишко отвозят. Из разных областных организаций люди к нам ездят, осматривают здания, дома, спорят, подо что их приспособить, чтобы не пустовали. Нас и не спрашивают, будто мы уже покойники. Каково все это нам, которые пришли сюда, когда тут еще голое поле было, которые тут все до последнего винтика своими руками сделали. Столько волнений, надежд, мечтаний, и все под откос. Ситуация!
А тут еще у меня сомнение — кто же виноват: Кульков со своими новыми конструкциями или Стороженко с негодной кладкой? Природа ли матушка, не захотев нам свои сокровища здесь отдавать, неожиданно нас ударила под девятое ребро, сами ли мы чего прохлопали, или, быть может, протянулась сюда злая вражья рука, а мы ее не разглядели? Кульков упорно утверждает, что расчет его верен. Стороженко говорит — бетон, как сталь, за бетон головой ручается. Однако поди проверь в затопленной шахте.
И не выходит у меня из головы последняя моя с Петро беседа, когда он отказываться от опытного участка приходил. Неужели, думаю, пошел парень из-за ревности на такое дело? Скверно. И — что ни день — уезжают люди, и каждый ко мне в партком прощаться заходит. Ах, думаю, будь вам не ладно с этими вашими прощаниями. Сердце вы у меня по пять раз на день вынимаете. Ехали бы уж так.
Потом говорят мне: Стороженко запил. Ходит будто по поселку опухший, небритый, мятый и песни поет. Кульков — тот еще больше ссутулился, похудел, в чем душа держится. Идет с утра, как лунатик, не разбирая дороги, прямо по целине на берег, садится на эту самую скамейку, что за городошной площадкой, засунет руки в рукава, уставится в одну точку, да так и сидит целый день, шевеля губами. Ему-то особенно лихо. Прямых обвинений ему никто не предъявляет. Однако все говорят — доэкспериментировался. А те, кому от полюбившегося дела уезжать больно, те на него особенно злы, в нем виновника всего несчастья видят…
Да-а-а, достались нам те дни! Я вот в гражданскую в разведке работал, потом в ЧК служил и все был черен, как жук. А тут видите — сивая голова. Это все консервация меня серебрила. Да разве меня одного?..
Читать дальше