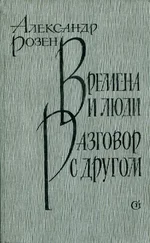— Папа!.. — сказала Валя.
Но старика уже нельзя было остановить. Он рассказал Черняеву о том, как умерла его жена и как он сам заболел. Ему ведь пятидесяти лет нет, а вот что сделали с ним проклятые фашисты. Стариком стал глубоким. Вот уже три месяца не может подняться. А ведь трое детей. Старшая, Валечка, теперь за мать.
— Тебе вредно разговаривать, вредно волноваться, — сказала Валя. Но старик продолжал рассказывать горестную повесть своей семьи. Рассказал он и о той страшной ночи, когда их погнали из Стрельны, и о жизни в оккупированном Пскове, и, наконец, о жизни в лагере.
О Вале он говорил с гордостью: «моя старшенькая», «моя умненькая», «мамка наша».
Валя стояла позади них, и Черняеву хотелось обернуться, увидеть ее лицо, встретиться с ее взглядом.
«У нее печальные глаза, — думал Черняев, — красивые и печальные».
— Когда мы вернемся домой, в Стрельну, я поправлюсь, знаю, что поправлюсь, — сказал Костров. — Да нашего-то дома, наверное, давно уже нет…
— Новый будет!
— Да, будет новый, — повторил Костров, сжимая руку Черняева. — В первое же воскресенье поеду с детьми в Ленинград. Ведь я же ленинградец, а в Стрельне стал жить, только когда женился. Да, не дожила, не дожила Анастасия Петровна…
Стемнело. Черняев слышал, как Валя возится с керосиновой лампой.
— Когда мы вернемся… — начала Валя, но не докончила и стала подкручивать фитилек, глядя, как разгорается маленькое оранжевое пламя. — Садитесь, товарищ майор, будем ужинать.
На следующий день начались учения, и Черняев больше недели не появлялся в городке. Он и ночевал в поле, как этого требовала служба. Дивизион снова отличился, и сам командир корпуса похвалил Черняева за слаженность орудийных расчетов.
Учение было закончено, но Черняев не почувствовал обычной разрядки. Глядя на командира полка, он завидовал той легкости, с какой Ларионов перешел на дела обыденные.
«Домой, домой, надо отдохнуть», — подумал Черняев, но мысль о том, что он скоро будет дома и отдохнет, не радовала его.
Лешка собрал ужин. Так же, как и после боя, полагалось закусить поплотнее.
— Яичницу сейчас жарить или обождать? — спросил Лешка.
— Да все равно, — равнодушно ответил Черняев.
Сев за стол, он взял вилку, задумчиво повертел ее, потом вскочил, схватил фуражку и быстро вышел из комнаты.
Дверь открыла Валя.
— Так поздно… — сказала она, — отец уже спит.
— Валя, — сказал Черняев умоляющим голосом. — Только что кончилось учение.
— Подождите, я накину платок.
Черняев закурил, но в это время вышла Валя. Он бросил папиросу, взял Валю под руку, и они вышли на шоссе.
Еще несколько минут они шли молча, и Черняев подумал, что так больше нельзя. Он стал придумывать, о чем бы спросить Валю. Может быть, рассказать ей о том странном душевном неустройстве, которое он испытал после учений? Но лучше было ни о чем не говорить и не нарушать внезапного счастья, которое только в том и заключалось, чтобы идти вместе с Валей и, не видя Валю, представлять ее лицо, то напряженное и даже страдальческое, как в первый вечер их знакомства, то странно задумчивое, каким оно было, когда Черняев пришел к Костровым.
Вдруг резкий свет выскочившей из-за поворота машины осветил их. Черняев посмотрел на Валю и в то же мгновение заметил, что и она глядит на него, и понял, что она тоже хотела увидеть его и думала о нем. Это мгновение сблизило их.
Машина была уже далеко. Снова стало темно. Валя положила руку на плечо Черняеву. Он обнял ее и поцеловал.
Он хотел еще раз поцеловать ее, но Валя, приподнявшись, обняла его руками за шею и сама стала целовать Черняева. Она целовала его и говорила о том, что любит его, что он такой, каким она представляла его давно, еще в Стрельне, когда не было немцев. А потом, при гитлеровцах, она постоянно боялась, что ничего никогда не сбудется, жизнь пройдет без него, без любви, несчастье будет длиться долгие годы — только несчастье, и когда наконец придет он, она уже высохнет, как ее мать, и будет только страшно, что молодость ушла, но изменить уже ничего будет нельзя.
Ночью, дома, Черняев вспомнил Валины слова и задумался. Ему двадцать пять лет, а видел и пережил он столько, сколько другому хватило бы на несколько жизней. Зрелый человек? Но не одни только тяжелые испытания, лишения и страдания делают человека зрелым. Да и можно ли назвать человека зрелым, пока он не испытает настоящего счастья?
Этот вопрос он задавал себе и раньше. И всегда начинал думать о жизни, которая наступит после войны. Он ясно представлял себе возвращение в Ленинград. Мысленно Черняев видел себя на ленинградских улицах, мечтал о театре, музыке, книгах — обо всем, что дает человеку настоящее счастье. Но то были только внешние контуры будущей жизни. Глубокое ощущение того нового, что наступит, еще не пришло к нему. Какой же она все-таки будет, эта жизнь, когда они вернутся?..
Читать дальше
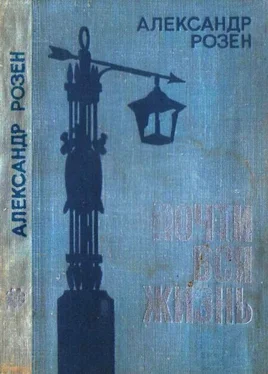
![Александр Карнишин - Вся наша жизнь [Сборник; СИ]](/books/27651/aleksandr-karnishin-vsya-nasha-zhizn-sbornik-si-thumb.webp)