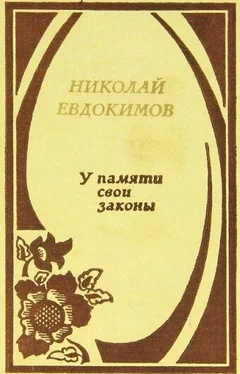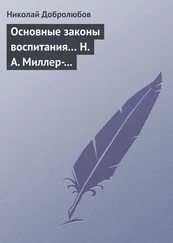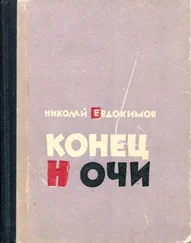— Ну, все? — спросил Фролов, не услышав более звона струи.
Женька простонал что-то в ответ и привалился к Фролову теплым, разомлевшим тельцем. Фролов поднял его, понес в избу. Женька лежал на руках Фролова, запрокинув голову; нога его свисала и болталась. Пахло от Женьки потом, теплом и еще чем-то — то ли молоком, то ли хлебом или нагретой землей, а может, деревом, раскрывшим первые листья. Фролов не мог понять, чем это так хорошо пахнет от Женьки, только чувствовал и знал, что чем-то первозданным, святым. Он поцеловал маленькое, теплое, святое Женькино тельце, в шейку поцеловал и уложил его в постель: пусть досматривает сны.
А сам вышел на крыльцо и сел там, привалившись к двери, глядя на светлеющее небо. Вот тут-то и подумал Фролов, что из всех счастливых мыслей, которые когда-либо настигали его, самой счастливой была мысль позвать к себе этих ребятишек.
Вообще время от времени надо прикасаться к чему-то святому, к чему-то незащищенному, беспомощному. И не только для того, чтобы почувствовать свою слабость, но и для того, чтобы вспомнить о собственной силе. Ощущая свою слабость, человек добреет, а доброта — сила сердца.
Так, сидя на крыльце, привалившись к двери, Фролов подремал немного, очнулся от петушиного крика, закурил, стал слушать далекие паровозные гудки. Вот странность какая: по всей окружности на пятьдесят, а то и более километров не было ночью никаких паровозов, а гудки все равно откуда-то неслись и томили своим зовом. Железная дорога, даже пустая, издавала привычные звуки и жила, лишенная жизни. Этот таинственный предрассветный зов железной дороги, рождающийся неизвестно откуда, так, из ничего, из пустоты, был особенно завлекателен и призывен.
Через несколько часов, в десять тридцать по расписанию, примчится настоящий поезд, увезет фроловских гостей, и дым над паровозом станет похож на траурный черный флаг. Они уедут, а он, Фролов, останется тут вымаливать Настину любовь. И по-прежнему будет жить в одиночестве, в непризнании, необласканным, неухоженным. Нет, все ж таки нельзя, чтобы человек держал на привязи другого, как собаку, без всякой надобности! Неверно в этом отношении устроен мир. Может, Фролову хочется тоже уехать куда-нибудь, но он сидит в этом поселке и ждет, все ждет чего-то. Будто чуда. А чудес не бывает.
Фролов пожалел себя, рассердился на себя, растоптал окурок и пошел на речку ловить рыбу.
Пока спали его гости, он все успел: наловил карасей, накопал в бабкином огороде картошку, разжег посреди двора летнюю печку-времянку.
Помогать ему выбрался из избы желтоголовый Сашка, обмыл картошку, натаскал чурок для растопки и попросил:
— Дал бы курнуть, дядь.
— Нашелся куряка! Молоко не обсохло.
— Обсохло, я давно курю. Меня уж не перевоспитаешь. Я самогон даже пил. Но самогон — дрянь дело, противно. А курево — пользительно. Дай!
Фролов вздохнул, бросил ему кисет.
— Ты танкист, дядь? — спросил Сашка.
— Нет. Почему? Пехота.
— Царица полей! — не очень уважительно сказал Сашка. — А мой батяня танкистом был. В танке сгорел. Ты видал, как танки горят?
— Я все видал, — ответил Фролов.
— Я тоже, — сказал Сашка. — Как стог сена, — ух!— полыхают. Только дым черный словно деготь. Страхота! У тебя есть дети?
— Нету.
— Чего ж так?
— Не женился.
— Женись, — посоветовал Сашка, — плохо одному, без бабы.
— Женюсь, — пообещал Фролов.
Сашка затянулся, выпустил дым и, подумав, сказал таким тоном, словно был очень озабочен фроловской судьбой:
— Ты на нашей тетке Марусе женись, она хозяйственная.
На крыльце кто-то засмеялся. Фролов обернулся, увидел тетку Марусю и смутился.
— Сосватал? — весело спросила она.
Фролов не то чтобы не узнавал в ней вчерашнюю усталую, измотанную женщину, потерявшую возраст, а удивлялся ее молодости и даже прелести, отчего-то не замеченной им накануне. У нее были черные, глубокие глаза, пухлые губы и упругие щеки с пушком на скулах.
«А что? — подумал Фролов, отведя глаза от ее лица. — Запросто мог бы жениться. Прокормил бы и ее, и ребятишек, всю ораву. Чай, не без рук, не без ног и умственно не отсталый!»
Она нравилась ему. Вот она ловко умыла ребят у колодца, сама умылась и забелела лицом, а глазами зачернела еще ярче и стала совсем хороша.
Пока детишки уминали карасей и картошку, Фролов побежал за хлебом. Булочная далеко была, одна автобусная остановка, почти километр. Он сумел без очереди отовариться за три дня, чтоб гости его не голодали в дороге, прихватил конфет — карамельки с повидловой начинкой — и когда вернулся, была самая пора отправляться на станцию.
Читать дальше