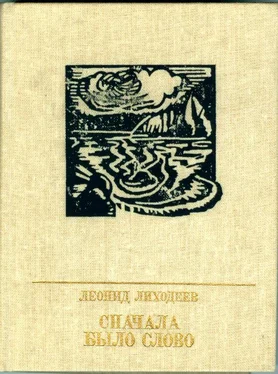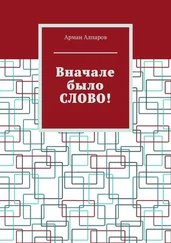Кабинетный человек? Два года назад, когда Слепцов уговаривал смягчить «Молодую Россию», Заичневский был оскорблен: мы не мальчики! Что с того, что вас прислал Чернышевский?! У нас своя голова! Но вот Чернышевский здесь, в каторге. Не «Молодая ли Россия» прибавила ему причин оказаться здесь?
— А где Слепцов? — неожиданно для самого себя спросил Заичневский. Чернышевский не удивился вопросу:
— В Лондоне.
Слабая улыбка на сероватом осунувшемся лице почему-то взбесила Заичневского:
— А вы почему (хотел сказать: «какого черта») не в Лондоне?!
Чернышевский снова тихонечко рассмеялся:
— Так я ведь уже бывал в Лондоне…
— Ничего смешного не вижу…
— Я — тоже… Мне ведь они предлагали… Даже обещали доставить до границы в целости и сохранности…
— Кто?!
— Господин Потапов.
Заичневский опустил голову. Хотел спросить — когда предлагали? До «Молодой России»? Не спросил. Тихий смех сменился было печалью, но печаль не удержалась. Глаза Чернышевского сделались твердыми, металлическими:
— Очень жаль, что вы так подумали.
Петр Заичневский вспыхнул, спохватился:
— Вы не поняли меня. Я бы тоже никогда, ни за что!
— Зачем же спрашивали?
— Николай Гаврилович, ради одной причины — не хочу, чтобы вы были в каторге! — искренне пояснил Заичневский.
— Не продолжайте, — слабо отмахнулся Чернышевский. — История никакого «бы» не признает-с… Такая, знаете, злопамятная дама (и снова пристально — в глаза). Я не унижусь ни до того, чтобы бежать, ни до того, чтобы просить милости. Я знал, что делал, с самого начала…
Вошел Кондрат, неся в тряпках большой чугун, парящий свежим рыбным духом.
— Когда Сократу устроили побег, он предпочел цикуту, к которой был присужден, — усмехнулся Петр Заичневский.
— Занятный философ Платон, — вяло ответил на это Чернышевский и посмотрел в глаза. — А вы непременно ищете случая лезть на рожон… Видите ли, Заичневский… Я радуюсь, что моему голосу придано больше прежнего силы и авторитетности… Моему голосу, который… Зазвучит же когда-нибудь (махнул рукою в окно), когда-нибудь!.. В защиту десятков миллионов нищих…
Заичневский посмотрел в окно и увидел лицо, заглянувшее как бы невзначай. Потом — еще лицо… Все чиновники и офицеры сбегались смотреть на государственного преступника Чернышевского, который оказался для них как чудодей для малых ребятишек, выше разрядов, выше определений, выше самого государства! Этого они не осознавали. Человеческое простодушие одолевало их служивую тупую силу перед этим немощным арестантом, для которого что-то непостижимое оказалось главнее жизни и смерти.
Кондрат, похожий на ловкого медведя, расставлял глиняные миски. Уперев в грудь арестантский черный каравай, резал ножом к себе. Чернышевский посмотрел с интересом в миску, спросил Кондрата весело:
— Как же ты ее варишь?
— Наука, — пояснил Кондрат.
— У нас на Волге стерлядка… Голубка-рыба…
— И-и-и… Тута — хариус, ваше преосвященство! Кондрат почему-то упорно считал нового каторжного — расстриженным архиереем.
— А ведь мне в этих днях — тридцать шесть лет, — смущенно сказал Чернышевский, — многовато…
Чернышевского не оставили в Усолье. Петр Заичневский проводил в неизвестность не молодого (тридцать шесть лет!), не здорового человека, который не унизился ни до того, чтобы просить, ни до того, чтобы бежать. Может быть сентиментальное заявление «Я ухожу», с которого, в общем, начинается роман «Что делать?», несет в себе смысл сокрытый? Мы не совпали со взрывом. А был ли взрыв? Нет, взрыва не было. Были вспышки. Как шутихи в иллюминациях. Шутихи. С кровью, с кандалами. Когда же теперь — взрыв?
Ситуайен Пьер Руж (кстати, кто здесь, в Усолье, назвал его кличкой, которую дал еще в Москве Перикл Аргиропуло?) оставался с вопросом: «Что делать?» Революция шестьдесят третьего года, так яростно маячившая перед воспаленным взором, — уходила, уплывала, уносилась. Что делать? Надо принять обстоятельства. Но сам смысл революции разве не состоит в том, чтобы изменить их? Но как?
— Струмент ладь, струмент, — учил дядя Афанасий, — без струмента вошь не убьешь…
Теперь Петр Заичневский жил в поселении. Служил в конторе, помогал (любил ремесло) плотникам, читал книги и думал: надо ладить «струмент». Вся беда оказалась в том, что инструмент не был отлажен. Организация, только организация! Если бы была организация!..
Смирный мерин дяди Афанасия тащил телегу, ситуайен Пьер Руж шел, причмокивая, рядом с колесом.
Читать дальше