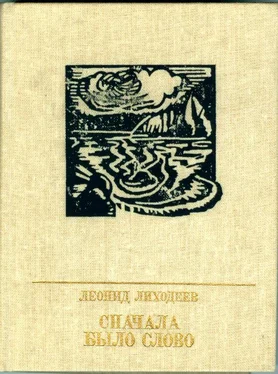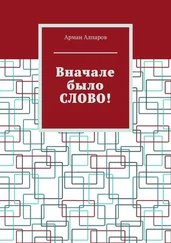Казак глянул на арестанта, перевел глаза на непонятного самоуправца в красной рубахе: кто он тут?
— Николай Гаврилович, — сказал самоуправец, — я — Заичневский…
— Вот вы где, — так же тихо, но несколько дружелюбнее сказал каторжный в окулярах, — чем же вы здесь заняты?
— Господа! — взял ружье казак. — Не велено!
— Как ты мне надоел, братец! Видишь — нам не до тебя! Николай Гаврилович… Куда же вас?
— Далеко, должно быть… Вы здесь?
— Нет, в Усолье… Вы проезжали… Была каторга… Теперь поселение навечно…
Урядник подвел лошадей:
— Кто таков?
— Да вот, Пал Палыч… не отстают…
— Впрягай, — передал казаку повода урядник и шагнул к Заичневскому:
— Кто таков?
— Молчать! — рявкнул Заичневский.
Арестант в окулярах оживился, повеселел, хлебнул, наконец, из кувшина, спросил по-французски с книжным неживым проговором:
— Как вы с ними обходитесь?
— С этими канальями иначе нельзя. Я разыщу вас, непременно.
Урядник, будто ничего не было, помогал впрягать лошадей.
— Гляди-ко, буланый раскуется…
— Дойдеть… Шестьдесят верст дойдеть…
— Гляди мне! — приказал Заичневский, — довезти в полном удовлетворении!
— Не извольте, ваше благородие! — выпрямился урядник.
Каторжный рассмеялся тихонько.
Девка ожидала кувшина. Каторжный хотел было отдать недопитое молоко, но Заичневский предупредил:
— Не торопитесь, Николай Гаврилович.
И — девке, протянув тяжелую медную монету:
— Возьми за кувшин! Тут за два хватит! Хороша ты, чертовка! Жених у тебя есть?
Девка взяла пятак, прыснула и побежала, разбрасывая босые пятки.
— Женихи у нее, — начал было, повеселев, урядник, но осекся, — Тельма-шельма, одно слово-с…
— Я вас найду, — сказал по-французски Заичневский.
— Я вам должен за кувшин?
— Разумеется! Пожалуй, я стану торговать кувшинами! Прекрасное занятие для радикала! Поставлять товар будут мне местные Афродиты!
— Я воображал вас иным, — улыбался каторжный в окулярах, — впрочем, таким же легкомысленным…
Петр Заичневский шел из Тельмы и думал о Чернышевском, стараясь убедить себя, что дальше Иркутска Чернышевского не зашлют — неужели мало двух лет Петропавловской крепости? Заичневский сравнивал вину различных узников, примеривал к видам правительства, сам того не понимая, что измерения эти есть всего лишь утешающее самозащищение от действительной реальной жизни. Конечно, рассуждал он, Михайлов не так велик, как Чернышевский, потому-то он и томится до сей поры. Но Чернышевского выпустят! Неужто правительство не понимает?
Сегодняшняя встреча взбодрила Петра Заичневского надеждой. Он помнил, как ругал Чернышевского Слепцову (кстати, где он теперь, Слепцов?), но все это было там, в России, в иной жизни, в дни его прокламации. Он никак не связывал арест Чернышевского с «Молодой Россией». Однако сейчас, в виду Усольского погоста, он подумал о бедном Усачеве, смерть которого была связана с этой прокламацией, только с ней и больше ни с чем! Судьба? Но что такое судьба Петра Заичневского? Он жив. Он написал и жив, а Усачев прочитал и погиб! Неужели там, в Петербурге, не знали, кто написал? Неужели (это говорил и Гольц-Миллер) там думали, что написал Чернышевский? А он сказал умирающему Усачеву, что комитет есть! Чтобы умирал спокойно. Можно ли для того, чтобы человек умирал спокойно, обнадежить его небылицей? Не царство ли это небесное, ожидающее за гробом того, кто поверил? Такая мысль влетела в его голову впервые! Пани Юзефа, сестра милосердия, любила «пана поручника», как младшего брата, она молилась за него, кормила, оберегала его жизнь, пытаясь укрепить тающие силы, но она не морочила ему голову тем, что он умирает не напрасно.
— Месье Пьер Руж! Человек всегда умирает напрасно! Распятие было одно! Его достаточно на всех людей!
Почему же это — напрасно? Какой вздор… Как же тогда нести знамя под пулями, если не убежден, что знамя это поднимет собрат, когда ты упадешь? Усачев упал, зная, что знамя будет поднято!
Сзади по тракту катились колеса тяжелой телеги. Заичневский сошел с дороги, не оборачиваясь.
— Э! — услышал он и обернулся.
Дядя Афанасий шел рядом с возом. Коняга, натруженно изогнув шею, тянула оглобли.
— Домой? — спросил дядя Афанасий. Заичневский кивнул.
Шли молча, без разговоров. Груз был невелик, но тяжел: гвозди, костыли, скобы. Груз позвякивал незвонко.
— Что ж я тебя в Тельме не приметил? — спросил дядя Афанасий. — Там этап был… Может, кого своих встретил?
Читать дальше