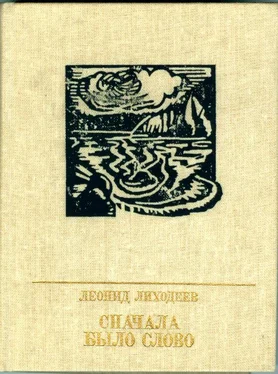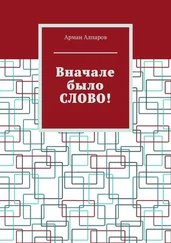Полицмейстер вызвал к себе означенного преступника:
— Выходка ваша была неуместна, Заичневский. Вы учинили на святом месте недостойное действие. Кощунственное. Балаган. Вы ведь были друг покойного. А скорби в поведении вашем не видели. Для вас самое смерть — всего лишь повод для крамольных речей. Кто же eго замучил? Он простудился, свершив дело богоугодное, и я доложил начальству о поступке его. Человек в божьем промысле не волен.
— Однако он погиб в каторге, — сказал Заичневский.
— Да ведь каторга ему назначена не за детские бирюльки! Возмущение нижних чинов чтением противоправительственной брошюры! Образование незаконных сборищ!
«Да поди ты к черту, стоеросовая дубина! Они читали нашу „Молодую Россию“! Из-за меня его прислали сюда!»
— Вы молчите, — вздохнул Соловаров, — стало быть, сказать нам нечего… А рубаху свою все-таки…
— А что — нейдет? — весело, простодушно, никак не соответствуя тому, о чем только что думал, спросил Заичневский.
— Нейдет! — вдруг вскрикнул Соловаров, — нейдет-с! Вам к лицу суконный балахон-с!
— И — колодку на шею!
— Да-с! И колодку!
Петр Заичневский придвинулся через стол, зацепив песочницу (хорошо — не чернильницу), и, глаза в глаза, — негромко:
— Руки коротки, Александр Ефремович…
Соловаров отпрянул от него, упершись в стол, как отгородившись:
— Да кто вы таков?!
— О сем вас почтительно известят особо! — встал Заичневский, — честь имею!
«Изведу, — налился изнутри гневом полицмейстер, — изведу!»
А чтобы унять себя, чтобы занять руки, стал небольшой бумажкой, как совочком, возвращать в медную песочницу просыпанный песок. Кто же он такой, этот бесстрашный, будто жизнь и не жизнь, а пустые шуточки — преступник?
На Полицейской Кондрат, увидев, откуда Заичневский вышел, спросил сочувственно:
— Беда, барин?
— Как же ты можешь сечь человека? — спросил на это Заичневский.
— Как же не сечь? — удивился Кондрат, — дело обыкновенное. Издревле… Тебя, к примеру, папенька секли?
— Меня никто никогда не сек. И сечь не будет.
— А народ секли-с… Народ-то сам себя сечет… Барин — он сечет для мучительства… А народ — для дела: сколько приказано, столько и влепит… А теперь, когда государь даровал волю, господа — не очень-то… Сказывают, в Петровском заводе помещик объявился — троих мужиков смертью засек со зла, когда воля вышла… Eго самого — в каторгу… Так что теперь народ сам себя сечь станет… Слух такой, что поселение вашему благородию… Да и я — бобыль… И в каторге — несправедливо… Кабы я барина прибил — другое дело… А то — мужика! Такого, как я! Меня, к примеру, убей — я слова не скажу…
Петр Заичневский посмотрел в простодушные, правдивые синие глаза Кондрата. Лепорелло. Сганарель русский. Убивец и добряк. Палач и утешитель.
— Служить хочешь? Платить тебе нечем…
— И-и-и, Петра Григорьевич! У тебя — голова, у меня — руки! Неужто не наживем? Землицу примем, золотишко постараемся, а то — слышно — глина тут нa Белой реке, посуду лепить… Промышлять зверя… Артель соберем. Гришутка — плотник первый сорт!
— Какой Гришутка?
— Ну этот, — смутился Кондрат, — которого я — по артикулу, стало быть…
— Этот?! Так он же тебе ввек не простит!
— Ва-а-ше благородие, — протянул Кондрат, — мы уж и шкалик приняли… Разве ж он не понимает? Теперь расковали, храм божий рубить будет!..
Профессор Кандинский говорил о рабстве по-немецки, о свободе — по-французски. Это развлекало Петра Заичневского.
— Я ненавижу вашу улыбку, — сказал профессор по-русски, — в ней на сто лет самоуверенности и ни на миг сострадания.
— Я терпелив, — миролюбиво сказал Заичневский, — я выслушиваю оскорбления всегда внимательно и потому отвечаю на них самым исчерпывающим образом.
— Вы устроили спектакль на могиле друга! Как вам верить?
— То же самое сказал мне господин полицмейстер. Не сговорились ли вы?
— Таинство смерти, таинство перехода в иной мир (по-французски) не может и не должно служить поводом для политических, пропагагорских предприятий!
— Где и в чем вы не видите политики? — вдруг загремел Заичневский. — В смерти? Но смерть явление социальное! Человек умирает в обществе!
— Оставьте, я это читал у Бокля!
— Плохо читали! Может быть, бог — не политика? Может быть, ваше упрямое нежелание преодолеть свою ограниченность — не политика? Что не политика на этом свете? Что в этом мире не делится на про и контра?.. В революции смерти нет! Каждая смерть попирает самое себя, придавая сил и отваги тем, кто остался продолжать начатое!
Читать дальше