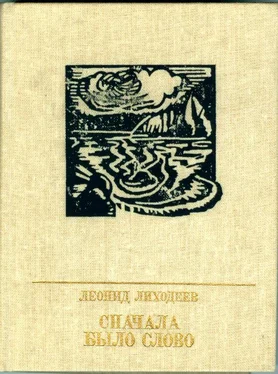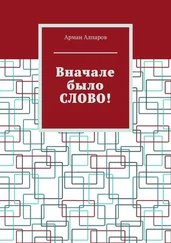— Тебе нужно прилечь…
Он неожиданно вспомнил покойного Грека, Перикла Аргиропуло. И даже не подумал, что Греку, ни здоровому, ни больному, ни умирающему в полицейском лазарете, он не посмел бы громоздить вдохновенные небылицы…
Помещение, занимаемое Петром Заичневским, мало помалу превратилось в место недозволенных сборищ.
Господин полицмейстер мог бы, разумеется, нагрянуть в гости со своими молодцами и с господином наблюдающим за политическими преступниками, но каторжный будто и не таился. Срок его каторги шел к концу, далее дожидалось вечное поселение, и Петр Заичневский жил так, будто не только собирался когда-нибудь выбраться отсюда, а наоборот, обживался, заводя дружбу с местными чиновниками — с акцизным, с лекарем…
К нему, Петру Заичневскому, ходили обыватели, женки острожных, рабочие женки, всякий народ — и кто явно обижен и кто в сумиении, — и он строчил за них прошения, всегда ловкие, всегда дельные. Являлись к нему и уголовные испрашивать его благородие (это каторжного-то!), как бы так учинить, чтобы угодить им, уголовным, в политические, хоть бессрочно, хоть на сто лет, но непременно в политические, чтобы получать казенные и — без битья. Правда, про «без битья» сморозил только один — Мишка Воронов, конокрад, остальные же просили честно: пущай с битьем, не господа все же, за казенные почему не потерпеть?
Ссыльный художник Сохачевский изображал на своих листах усольское общество. Суконные бескозырки с суконными наушниками, суконные балахоны и бушлаты. На большом листе нарисованы были Щапов, Шашков, Чекановский, Заичневский, Лепгурский… Сохачевский рисовал без композиции — отдельными пятнами с пустыми местами для тех, кто еще не изображен, может быть, для тех, кто еще не прибыл. Он рисовал варницы, лазарет, школы, церковь, скачущих лошадей, лодки в протоках. Был у него и автопортрет с дамами. Сохачевский в берете с опущенными наушниками чертил карандашом на стене, как на мольберте, стоя на снегу. У ног его изображена была разгребающая снег, стоя на коленях, закутанная платками пани Юзефа.
Сейчас он привел нового каторжного — знакомиться. Не успели присесть, как раздался стук.
— Вы играете в винт? — спросил гостя Петр Заичневский.
— В винт?!
— Играете! — приказал Петр Заичневский и пошел открывать.
— На ловца и зверь бежит! — громогласно возвестил он, впуская Соловарова. — Ждем четвертого, господин полицмейстер! Новый политический преступник — из богатой фамилии! Так не испытать ли нам его, каков он в истинном деле? По маленькой, а?
— Я шел не за этим, — холодно сказал Соловаров.
— Разумеется! И тем не менее — прошу! Да вы, я вижу, не один?
— Я должен произвести у вас обыск.
— Ах, Александр Ефремович! Я готов к обыску с первого дня! Уверяю вас, ничего, что могло бы вас интересовать, я не держу-с. Мысли мои вам известны. Денно и нощно размышляю о благе любезного отечества. Что же касается (показал на стол) сих неблагонадежных лиц, то я имел намеренье обштопать их хорошенько, чтобы не бунтовали! И тут как раз вы! Четвертый! Это удача!
— Послушайте, Заичневский! Ваше поведение я расцениваю как оскорбление начальства при исполнении обязанностей.
Петр Заичневский вмиг прекратил дурачество:
— Приступайте к обыску, господин капитан!
Сказано это было спокойно, более того, Заичневский повысил в чине коллежского секретаря Соловарова таким тоном, будто поздравлял его с производством.
— Скончался Усачев, — сказал Содоваров, — и мы…
— И вы пришли искать здесь то, что не нашли у покойника?! — закричал Петр Заичневский и сорвал с костыля свою поддевку. — Оставьте своих молодцов шарить здесь, а я иду!
— Петр Григорьевич, — несколько смягчился Соловаров, — я вас понимаю по-христиански… Однако… Демонстрация нежелательна… Мне стало известно, что у вас — красный флаг… И — речи… Не нужно речей…
Землю кайлили тяжко, будто земля эта никак, ни через какую силу, не желала разверзаться, чтобы принять в себя желтоватый некрашеный гроб, сделанный дядей Афанасием. Землю кайлили, как через зло:
— Не поддается…
— Дай-кось я…
И, выхукивая, вонзали кайло, щерясь от силы, будто была это веселая работа, игра — кто кого переумеет, кто кого переловчит. Кайлили каторжные, кайлили казаки, отставив ружья, кайлили обыватели, кто случился неподалеку. И была против всех одна земля, одна для всех, одна на всех, тяжелая, каменная, никак не желающая поддаваться ни вольному, ни арестанту, ни конвойному. Земля эта как будто созывала охотников померяться с нею, будто затеяла игру на солнечном морозе, и в игру эту вовлекали себя многие, позабыв в азарте, для чего, собственно, кайлят.
Читать дальше