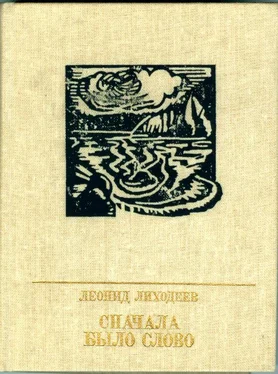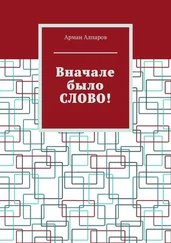— Да здесь-то я отчего?
— Здесь? — сам удивился дядя Афанасий и усмехнулся, — стамески мои точить… — И вдруг с интересом: — А ты, паря, сказывают, в царя палил? Не попал, что ли?
— Не попал, — обиделся Петр Заичневский и удивился своей обиде.
— Ну ладно, — сказал дядя Афанасий, — не дуйся, как кислым молоком… Старая вера — она и есть старая… Истинная…
Петр Заичневский, рассчитывая в своей «Молодой России» на старообрядцев как на мощную силу в бою с императорской партией, был для этого старообрядца всего лишь вкусившим никонианской пищи. При чем тут этот Никон (да и когда он был!)?! К тому же, Никон этот противостоял царю. А Аввакума, по рассказам дяди Афанасия, царь-то и сжег на костре! Кто же за кого? Кто против кого? Когда человеку двадцать лет, знать это совершенно необходимо! «Ты, паря, сказывают, в царя палил! Да и пищу не ту вкусил!» Вот и разберись!
Нет, всеобъемлющий, очевидный, все объясняющий утилитаризм, выстроивший ясный, четкий мир Петра Заичневского, как-то странно не вбирал в себя этого старика с его стамеской — лев на стреле…
Зима в Усолье приходила в октябре и уже прочно. Зима бывала ясной, солнечной, даже снег сыпался как будто с голубого неба, как будто образуясь из прозрачного студеного тихого воздуха. Заносило голубым снегом крыши, дворы, скирды и поднимались прямо, вытянуто дымы, редея, светлея — чем выше — и вовсе пропадая в небесах.
Работа на варницах тоже будто промерзала — больше грелись возле печей, чем работали.
Возле конторы стоял высокий сруб с малыми прорезями для окошек, расположенными выше человеческого роста. Сруб отапливался изрядно — дым из высокой кирпичной трубы был, пожалуй, самый высокий в Усолье. В срубе этом размещались ванны — продолговатые ушаты, бадьи, куда наливалась подогретая соляная (минеральная, как говорили здесь) вода. Говорили, будто купчиха Коротова подбиралась к начальству купить эти ванны и строить правильный (не по примеру ли кавказского?) курорт. Несуразица была явной: курорт на каторге? Хорошо ли? Но переписка шла, и Герасим Фомич понимал, что купечество своего добьется, ибо чего не достигнешь при деньгах…
Пока же ваннами пользовались местные чиновники и обыватели, кому не накладно, ибо завод брал за те ванны по гривеннику. Пользовались ваннами также нуждающиеся в лечении от всяких болезней политические преступники привилегированных сословий. А кто нуждался в лечении — о том, разумеется, докладывал начальству лекарь Митрофан Иванович.
Кондрат, освобожденный от битья с тем, чтобы принять должность палача, попал в положение, в которое можно попасть лишь по начальственной нелепости: если он палач, стало быть, соль ему более не варить. Он и не ходил к варницам.
Кондрат был убивец. Кончил он двенадцать лет назад управителя — тоже крепостного человека, который отнял у Кондрата нареченную невесту. Дело было на петров пост — Кондрат (топор за кушаком) увидал обоих в лесу в нехорошем виде. И то, что видел он все это на пост, осатанило, озверило Кондрата, который был тих и богобоязнен с детства.
Крик Пелагеи Степановны (Палашки то есть) остался в нем на всю жизнь. Конечно, ее он пальцем не тронул, а этого — только и помнил, как метнулось от головы что-то красное на зеленую траву, Кондрат в беспамятстве полез в бурелом, не выпуская топора, и рубил, рубил, что попадалось под топор, красня ударами зелень, пока с топора не сошли следы.
Два месяца брел он без ума через лес, дичая, кормясь ягодами, не от голода, а как-то само по себе, по-звериному.
Пойман был он уже в Тамбовской губернии мужиками, как чужой человек, был он тощ, немощен и заговаривался. Как быть с ним, мужики не знали и отдали его от греха начальству.
Так оказался Кондрат в Усольских заводах, и какая жизнь осталась у него за спиною, на родине, в валдайских местах, не знал, не хотел знать и не думал.
Теперь, в Усолье, после того ильина дня, Кондрат состоял при этих ушатах, где мокли господа, ибо надо быть при деле человеку, хоть и возведенному по высочайшему повелению в палачи. Среди каторжных из господ, которые попали сюда за государственные преступления, Кондрат высмотрел одного, особенного: молодого, смелого, веселого, бесстрашного, как дьявол. Он высмотрел его сразу, как того приэтапили, да узнал как следует только в тот ильин день. Служить этому барину Кондрат, сроду не бывавший дворовым, а всегда хлебопашцем, барщинником, возымел вдруг охоту. Ему даже стало весело от того, что они вместе с этим барином — каторжные. Чудны дела твои, господи!
Читать дальше