Дима читал письмо, выпятив нижнюю губу. Есть у него такая манера. Раньше, я знала, это означает у него высшую степень внимания и сосредоточенности. Хотела бы я быть в этом уверенной и сейчас.
…Ну что может произойти у человека в его собственной комнате, когда все, что могло в этот день случиться, уже случилось. Он уже умылся, почистил зубы, постелил постель и даже откинул одеяло, чтобы улечься. Произошло.
Я открыла сумку — там ли блокнот с телефонами, которые мне завтра понадобятся, и моя рука нашарила на дне сумки еще какую-то бумагу. Вытащила. Грязноватый конверт со следами клея. Кто-то очень торопился, заклеивая его. Адресовано мне. Вихляющими печатными буквами — мое имя, отчество, фамилия (с грамматической ошибкой). Я разорвала конверт. Тетрадная страничка. Те же пляшущие печатные буквы. Я прочитала первые слова и даже не сразу поняла, что они означают. Но чуть до меня дошел их мерзкий смысл, я отшвырнула от себя этот грязный листок.
Некоторое время сидела в каком-то оцепенении. Потом вытащила из-под стола корзину для бумаг, подняла листок и кончиками пальцев стала рвать его на мелкие клочки, чтобы не осталось ни одного цельного слова. И задвинула корзину обратно. И уже было легла. Но нет, невозможно, чтобы э т о оставалось дома. Я вскочила, открыла окно. Мелкие бумажные клочки закружились в темном воздухе и исчезли из глаз. Я отправилась в ванную и долго-долго мыла руки.
Мне не нужно было отгадывать автора. Я поняла это сразу, чуть только взглянула на эти наглые приплясывающие буквы. Я только не могла понять: зачем?! Видимо, для того, чтобы хоть как-то уразуметь, надо проникнуть в чужую душу, хоть мгновение пожить ее жизнью. Но я и пытаться не хочу. И не только потому, что мне это недоступно.
Наверно, письмо лежало в сумке несколько дней. За это время я не раз ловила на себе темный, трусливый и в то же время исполненный невероятной наглости взгляд. Тогда я недоумевала. Теперь мне все понятно. Непонятно только одно — что делать? Сообщить Б. Ф.? Рассказать на собрании группы? Вызвать К себе? Бранить? Совестить? Укорять? Чтобы поняла, осознала, попросила прощения? Все бессмысленно, все бесполезно. И вот что я сделаю: я ничего не сделаю. Пусть она думает, что хочет: что я не догадалась, не сообразила, не поняла, растерялась — что угодно. И пусть уезжает. Пускай это будет тысячу раз педагогической ошибкой, я сознательно допускаю ее. И все. И как хотите.
Я легла и стала считать гусей. Они проходили мимо меня бесконечной вереницей. Я уже населила ими всю планету. Но заснуть не могла никак. Только под самое утро. И сегодня хожу вялая, медленная, сама как гусыня.
В группе по-прежнему спокойно. Но скоро от нас уезжает Оля Немирова. Ее очень заботит, кто после нее станет командиром. И меня, разумеется, тоже. Мы с ней перебрали чуть не полгруппы. Одна хороша по всем статьям, но не хватает характера. Другая — сильная, уверенная в себе, но слишком властная.
Сегодня вечером Оля подходит ко мне:
— Ирина Николаевна, я знаю кого! Венеру.
Пишу тебе, Валера, последний-распоследний раз. Долго собиралась, наконец собралась. С чего начну?
А хоть про тот вечер последний на Цыпиной кухне вонючей.
Много раз я его тут вспоминала. Все твои словечки, как зернышки серебряные, с ладони на ладонь перекатывала, уронить боялась.
А сейчас слушай, как я теперь про тот вечер думаю.
Ну вот, ты за мной Петуха прислал, и я полетела как очумелая. Ну как же, такое мне счастье: Валерочка к себе позвал! А почему позвал-то? Да испугался до смерти, вот почему! Узнал, что меня на утро к следователю вызывают, и затрясся. А вдруг я там имечко его назову, расскажу, кто это мне велел шмотки по людям разносить, денежки кому приволакивала. А еще про то, как наркоту в пакетиках разносила… да мало ли что еще вспомнить можно. И чего ты мне только с перепугу не наговорил. Про любовь свою негасимую, про память верную. Ты заплакал даже. И — помнишь ли? — ногу мне поцеловал. Это ж подумать только, такой потрясный парень, студент-отличник, девчонке-бродяжке ногу целует!
А только зря ты, Валерочка, передо мной унижался. Ты бы хоть у тех ханыг, у Цыплакова с Петуховым, спросил, они и то знали: Венерка умрет, а не продаст.
Ты, может, поинтересуешься, а что же раньше, не понимала я, что ли, какой ты есть? А я сама про это думала. И вот как тебе скажу: понимала, Валера. Только понимать себе не позволяла. Во мне как будто две девчонки, две Венерки сидели. Одна понимала, а другая такая счастливая была, что сама себя слушать не хотела. И вот мне теперь ту счастливую дурочку жалко, и такая злость на нее!
Читать дальше


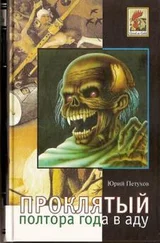

![Anne Dar - Полтора года жизни [СИ]](/books/419822/anne-dar-poltora-goda-zhizni-si-thumb.webp)






