— А то давайте чай пить, — робко сказала девочка.
Я осталась бы, я непременно осталась бы с ней, если бы не решила перед отъездом зайти к Лариной бабушке. Зачем? А вот этого я не знала.
Моисевна печально попрощалась со мной. Кстати, у нее есть имя — Тоня.
— А Ларочка ночевала у меня, — сказала бабушка. — Я было обрадовалась — вернулась. Нет, не вернулась. Переночевала и ушла.
Я пришла на вокзал рано. В моем купе еще никого не было. Я села на свое место, такая тупая-тупая голова. Я могла бы просидеть так долго — покуда поезд не остановится на моей станции. Но пришлось подняться и выйти, чтобы дать разместиться моим спутникам.
Я вышла в коридор. Поезд должен был вот-вот тронуться. Я подошла к окну, раздвинула занавески. Мимо окна летели сухие листья, бумажки, разный мелкий дорожный сор… И вдруг я увидела Лару! Она стояла боком к ветру и придерживала косынку, которая так и рвалась из рук.
Я попыталась опустить окно, ничего не получилось. Я стучала по стеклу, махала рукой. Она меня не увидела…
Поезд уже гнал вовсю. А она все стояла и стояла передо мной. Девочка на ветру.
Я долго не входила в купе, смотрела в окно и думала.
И продолжаю думать.
Даже если мы просеем сквозь мелкое сито и выудим их всех до одного, всех, сколько их есть, всех Моисевн, всех Валек-профессоров, всех-всех, и запрем их у себя, в наших спецухах, на полтора года — ничего этим не решится. Потому что решается не у нас. Мы нужны, мы, конечно, нужны, но решается не у нас. Решается по другую сторону нашего забора.
А что до меня, то со мной вот как. Если в результате всех моих усилий и стараний всего лишь десять… или даже пять… нет, пусть одна — одна! — найдет в себе силы, вырвется в настоящую жизнь, я буду считать, что я там не напрасно. Я понимаю, такая статистика никого не устроит. Но это моя статистика.
На вокзале меня ждал Дима.
«Мама у меня дважды судимая. А когда ее посадили в третий раз, меня взяли в интернат. Там были такие девочки, они пили и курили и вообще — все. С ними было весело, и я стала с ними, а не с другими. Потом мы с еще одной сделали первое преступление. Избили до сотрясения мозгов одну девчонку с интерната. За что, не помню. Чего-то она нам не так сказала или еще за что. Нас могли судить. Но мы извинились перед ней и перед ее тетей. И они нас простили и на суд не подали.
В нашей компании был один парень, он меня стал просить, чтоб пошла к нему жить. А я не захотела. Он спросил меня, что я девочка или уже нет? Я сказала — да. Он меня еще просил, но я все равно не пошла.
А потом прошло еще полгода. Мне уже совсем не хотелось учиться, я стала пропускать, а когда приходила, на уроках больше спала. Я приносила в класс сигареты и стала воспитывать девочек, ну не все хотели. А один раз принесла бормотухи и дала, кто хотел, попробовать.
А те из моей компании стали говорить: зачем ты ходишь в школу, неужели без школы не проживешь? И я бросила.
В декабре идем с одной девчонкой и встречаем одного парня, с которым я раньше ходила. Он сказал, надо поговорить. Мы зашли с ним в подъезд. Тогда он стал говорить, что та девчонка, которой мы сделали сотрясение мозгов, много чего говорила про меня плохого. Я сказала, что это неправда. Тогда он ударил меня два раза. Я заревела, а он стал извиняться. Девочка, с которой я была, ждала меня на улице. И мы с ней пошли к тому парню. По дороге купили водки. Пришли к нему. У него дома еще брага была. Он стал сильно пьяный и заснул. А мы с той девчонкой еще немного выпили и пошли в интернат разбираться с той девчонкой, которая говорила про меня. Меня там знали и пустили. А про девчонку, что со мной, я сказала, что сестра, и ее тоже пустили. В то время я уже дома жила, вернулась моя мама из тюрьмы, ей сделали амнистию. И папа тоже вернулся из тюрьмы.
Ту девчонку мы сразу нашли. Я ее ударила. И девчонка, что со мной, тоже ударила. И еще некоторые, что были в комнате, тоже стали бить ее. Мы избили и ушли. Мы вторично сделали ей сотрясение мозгов.
А потом меня отправили сюда. А больше ничего не знаю, что писать про мои молодые годы».
Это написала моя новенькая.
Вот так. Жизнь продолжается.


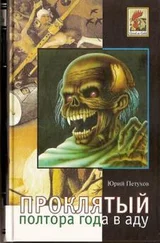

![Anne Dar - Полтора года жизни [СИ]](/books/419822/anne-dar-poltora-goda-zhizni-si-thumb.webp)






