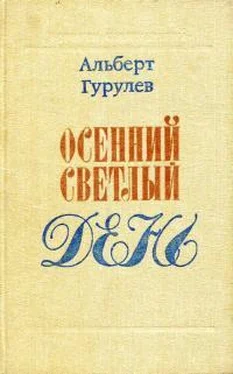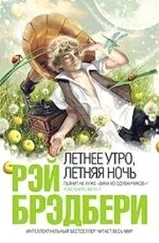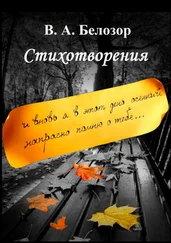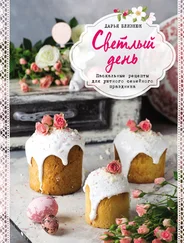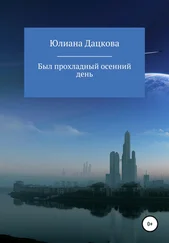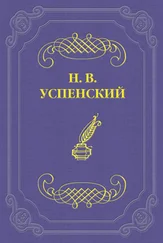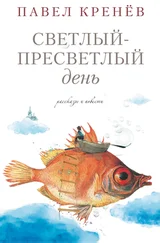Живет Егор Семенович в старой юрте, эдаком доме чисто северного варианта, обкатанного опытом нескольких веков. Дом квадратный, приземистый, крыша плоская, окошки маленькие. Неподалеку от входа куски голубого льда. Это запас воды. Случись хоть многодневная пурга — за водой идти недалеко. Около дома — высокий конус тонкомерных лесин. Это дрова, принесенные Индигиркой из дальних своих верховий. Все как встарь: с запасом, с установкой на автономное выживание. Крошечная дверь, да и не дверь даже, а дверца, ведет в холодные сени. Дверь открывается внутрь. Заметет юрту снегом по крышу, хозяин легко откроет наружную дверь, сам себя откопает из завала. В доме печь. Из металлической двухсотлитровой бочки из-под горючего. С кирпичом худо в этих краях, ближайший кирпичный завод… Далеко отсюда ближайший кирпичный завод. Вот и приходится сооружать печь из бочки.
Егор Семенович нас ждал, приготовился к обстоятельному разговору, на светлую от солнца столешницу положил тетрадь с записями.
— Старые слова народ забывать стал, вот я и думаю, записывать надо, — Егор Семенович погладил ладонью тетрадь, ища поддержки, посмотрел на Распутина.
Валентин Григорьевич и Егор Семенович недолго приглядывались друг к другу, быстро нашли общий язык, и вот уже хозяин дома открыл свой труд и не спеша читает:
— Нарусный. Нарусный — это значит нарочный. Послать нарочного. Понятно?
— Понятно, — соглашается Валентин.
Отчего же непонятно? Только слово это действительно так произносилось в давние времена или просто-напросто слово «нарочный» искажено местным произношением? Пока это не важно. Важно то, что Егор Семенович волнуется за судьбу языка своих предков.
— Посылать поклоны.
Пришедший с нами председатель сельсовета чуть улыбнулся:
— А это что такое?
Улыбнулся, оживился и хозяин дома.
— А это, значит, так. Если парню понравилась девушка, то он ей посылает поклон — лоскуток с завязанным на нем узелком. И если девушке парень тоже нравится, она поклон отсылает обратно и вяжет на лоскутке свой узелок.
— Верно, мы для чужого слуха не всегда понятно говорили, — снова берет слово председатель сельсовета. — Вот такой случай помнится. Я маленький еще был. Посылает меня бабушка к соседям чаю на заварку попросить. Прихожу к соседям и говорю, как принято было: бабушка заказывала варюшку-да. Вот это «да» обязательно прибавлялось. А варюшка — это значит чай на одну заварку. Соседи были приезжие и хотя уже привыкли к нашему разговору, но для шутки сделали вид, что меня не поняли, и спрашивают: а тебе какую надо варежку, с левой или с правой руки?
Валентин Григорьевич включил магнитофон, беседа все больше и больше настраивается на деловой лад.
— Башник. Набашничал. Значит, наговорил лишнего. Или секрет выболтал.
— Айдан. Это значит скандал, ругань. К примеру, так сказать: Сенька Портнягин сегодня опять с женой айданил.
— Шепоткой. Значит, пестрый. Собака у меня шепоткая. И прозвище могло такое быть — Шепоткой.
— И вот так говорили: обутрат. Можно сказать: куда торопишься, пусть обутрат. Значит, рассветет, обогреет.
Хоть и говорит Егор Семенович, что слова эти чисто русскоустьинские, но пусть об этом скажут лингвисты — им виднее.
А вот Зензинов, который весьма интересовался бытом и речью индигирцев, писал:
«…кроме этих особенностей в их речи сохранились старинные русские слова, выраженные в обороты, память о которых нами уже утрачена».
И исследователь приводит слова, которые для русского сибирского уха не незнакомы, или малознакомы, а что ни на есть родные, обиходные. «Морок» — туман, ненастье. «Лыва» — лужа. «Курья» — залив на реке. И так далее. И так далее.
Утрачены были к началу века эти слова в Европейской России или не утрачены, это дело опять же лингвистов, но, услышав эти «утраченные» слова в устах индигирцев, почувствовалась к индигирцам теплая родственность, к людям, четыреста лет, как умея, оберегавшим родной язык. Да тут и к бабке ходить не надо, и так понятно, что и индигирцы, и вольный сибирский землепроходец, ратник и пашенный мужик — триединый в этих своих ипостасях — отростки общего могучего корня, имеют единую прапрародину.
Удивительно, что некоторые слова, которые и для Сибири-то считаются сугубо диалектными, имеющими крайне малое распространение, вдруг нашлись в Русском Устье. Вот, к примеру, слово «макса», означающее налимью печень. Этого слова нет ни в четырехтомном «Словаре русского языка», недавно выпущенном Институтом русского языка Академии наук СССР, его нет и в словаре Даля. Зато есть это слово в девятом томе «Словаря русского языка XI—XVII вв.».
Читать дальше