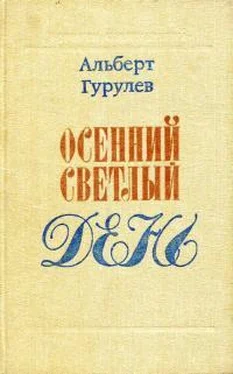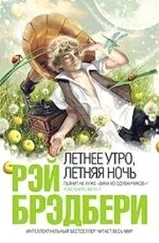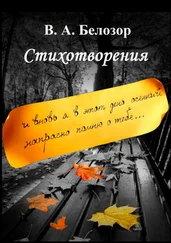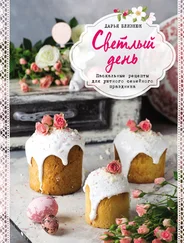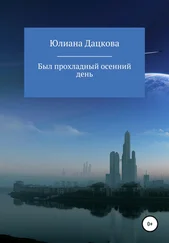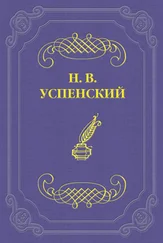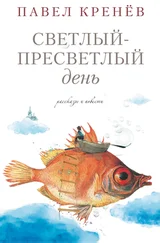Все в мире относительно. Даже из моих родных мест, из Сибири, тот же Якутск представлялся далеким северным городом, стоящим на вечной мерзлоте. Да так оно и есть на самом деле. Но вот отсюда, из тундры, он был совсем уже другим: тоже далеким, но уже южным, где летом растут высокие зеленые травы, где растут большие деревья, где летняя жара бывает за тридцать градусов.
И когда после кружения по тундре от пасти к пасти, кружения по заледеневшему плоскому кругу, где нет даже признаков человеческого жилья, по кругу, очерченному низкой линией горизонта, мы, наконец-то подъехали к крошечному балку, притулившемуся к еле угадываемому под снегом озеру, на нас пахнуло человеческим жильем, человеческим присутствием в тундре, обжитостью. И цивилизацией, если хотите.
А потом, покружив по сендухе еще какое-то время, увидели вырастающий из-под снега поселочек, то он нам уже не показался ни маленьким, ни затерянным. Рано было говорить, каким он для нас стал, но мы радовались его приближению. Радовались домам, уюту в этих домах, надежному теплу и всему тому, что есть в поселочке: магазинам, треску двигателей снегоходов и мотоциклов, дыму над трубой котельной и даже многолюдству.
Мы порой разучились удивляться тому, чему еще стоило бы удивляться, и многое воспринимаем как должное. Вот и мы без всякого удивления увидели в квартирах полярнинцев телевизоры, электроплиты, не говоря уже о других приметах городского быта. А удивиться стоило бы. Кругом снежная пустыня — ну не пустыня, конечно, но все-таки — нет на тысячи километров ни ГЭС, ни ТЭЦ, а из окон жилищ, прямо в тундру, отсвечивают экраны телевизоров.
Обратимся опять к Зензинову. Вот он приехал в Русское Устье и обустраивается на новом месте.
«В первые дни дверь моей юрты хлопала поминутно, и гости с жадным любопытством следили за тем, как я вынимал из ящиков одну незнакомую вещь за другой. Весть о каждой новинке быстро облетала все избы. Наибольший эффект произвела керосиновая лампа — первая в Русском Устье. — «Достал, — рассказывали наблюдатели, — чайник какой-то блестящий и на него стеклянную тарелку надел» (жестяная лампа со стеклянным абажуром). — Но что было это такое, они не знали, а спросить не смели. Вечером разнеслась новая весть: «Зажег! зажег!» Лампа эта произвела такое впечатление на умы индигирцев, что, я уверен, с нее будут считать здесь начало новой эры».
Трудно в такое поверить сегодня: ведь это было недавно, уже в нашем веке. Но и как не поверить.
В последние годы к Русскому Устью проснулся немалый интерес, и потомки землепроходцев не обойдены вниманием ни кинематографистов, ни газетчиков, ни ученых-лингвистов. Документалисты сняли цветной фильм о русскоустьинцах, и он был показан по центральному телевидению. Нам не удалось увидеть его на экране телевизора, но зато мы смотрели фильм о Русском Устье в клубе поселка Полярный. (Читай: Русское Устье.) Русскоустьинцы смотрели его далеко не первый раз, но с видимым удовольствием, хотя и высказывалось некоторое недовольство фильмом, стороннему человеку непонятное, основанное скорее на личных отношениях попавших в кадр и не попавших.
Но нам-то, пришлым, все было интересно и все было хорошо. Сидит среди летней тундры человек и что-то рассказывает на малопонятном языке. И, выждав определенную паузу, голос за кадром сообщает, что на экране и человек русский, и говорит по-русски. Только говорит он на языке наших предков. На языке шестнадцатого века. На том языке, на котором совсем до недавнего времени говорили русскоустьинцы.
Вслушиваешься в этот говор, непонятный вроде говор, льющийся, льющийся непрерывным ручейком, без восклицательных всплесков, без пауз, говор сродни давнему обычаю русских писать непрерывной строкой, без интонационных знаков, так, как писаны новгородские берестяные грамоты, так, как писана Библия Василия Кореня.
Так говорили русскоустьинцы. Но уже не говорят. Или почти не говорят. Школа, радио, а теперь и телевидение давно обучили северян современному русскому, в убыток дедовскому, языку. И лишь люди среднего и старшего поколения, собираясь вместе, могут потешить себя старинным русскоустьинским разговором. И понимают люди, что пройдет еще совсем коротенький отрезок быстротекущего времени — и уйдет, исчезнет живой язык времен Ивана Грозного, уйдут и сами его носители. Понимают это не только ученые-лингвисты, но и свои доморощенные языковеды. С одним из них, Егором Семеновичем Чикачевым, нам удалось встретиться.
Читать дальше