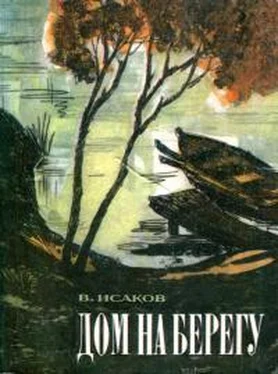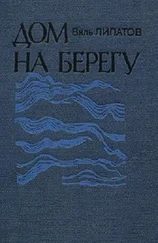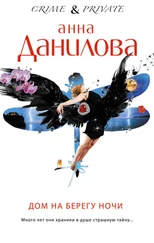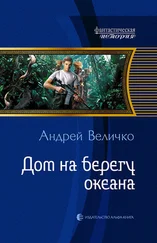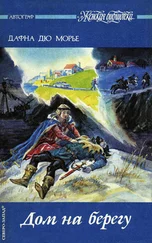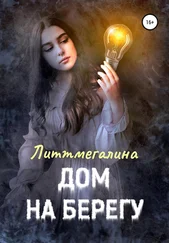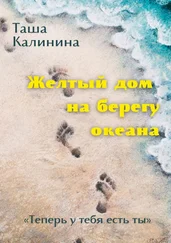Однажды мы с директором Селижаровского леспромхоза Николаем Петровичем Беляковым собрались и поехали в эту глухую, дальнюю сторону — через реки, мосты, через большие и малые болота.
На въезде в Оковский лес, как крепость, на горе стоит старинное село Оковцы. Мы остановились наверху и долго смотрели на море соснового леса.
— Тут есть интересное место, — сказал Николай Петрович.
Мы спустились вниз, постояли на мосту через Пырошню, над запрудой с черной мельницей и белыми облаками. Река тихо плыла среди прибрежных песков. Место, о котором шла речь, в самом деле оказалось любопытным. Над водой, в высоте, нависал огромный зеленый холм. Это было Оковецкое городище — город тысячелетней древности, где когда-то шла забытая, непонятная теперь для нас жизнь.
Оковцы, как и Оковский лес, встречаются на страницах наших летописей. По записи летописца, здесь «в тесных, непроходимых местах» в 1547 году были схвачены ржевские опальные князья Михаил Глинский и Турунтай Пронский. Несколькими годами позже в Оковцы приезжал царь Иван Грозный. Тысячи людей шли и ехали сюда за лекарственной водой к лесному ключу — к некогда знаменитому оковецкому источнику.
— Поедемте в Сибирское лесничество, — предложил Николай Петрович. — Там у нас есть один человек. Он всю подноготную этих лесов знает.
Сибирское лесничество лежало вдоль Пырошни и Тудовки, по холмам и болотам Оковского леса. В вышине над дорогой качался могучий вековой бор. На многие километры вокруг была таежная глушь. Тут и в самом деле пахло Сибирью. Я спросил Николая Петровича, откуда взялось такое название.
— В этом лесу есть деревня Сибирь. Почему так зовут, я даже не знаю. Вот спросим у Агафонова.
Все в этих местах было сурово и загадочно. Качался лес. Шумели сосны и ели. Наконец мы приехали в деревню Малый Бор, где была контора лесничества.
Начальник Сибирского лесопункта Николай Иванович Агафонов оказался невысоким веселым человеком, который действительно знал все на свете. Мы сели у старой плотины на берегу Пырошни и, бросая камешки в воду, стали глядеть на реку.
— Сибирь-то? — переспросил Агафонов. — Есть такая деревня. Стоит с тех времен, когда тут гоняли на каторгу. Арестантов на три дня останавливали, расковывали, мыли в бане и вели дальше. С тех пор и осталось: Сибирь и Сибирь…
Мне показалось странно и не по пути, идя откуда бы то ни было, забираться в такую глушь. Я сказал об этом рассказчику. Но Агафонов пожал плечами и возразил:
— Люди говорят. Значит, что-то такое было…
Нет, ничего не забывается в народе. Тут помнили еще и не про такие дела.
— В здешнем лесу есть одно урочище, Ботвининский Мох. Болото и болото. На болоте стоит сосновый остров. Место называется Городок. Говорят, где этот мох, раньше было озеро и туда приезжали на стругах торговать. Так старики рассказывают.
Агафонов остановился, словно предоставляя нам верить или не верить этим рассказам. Но сам он имел вполне определенное мнение:
— Там и сейчас три небольших озерка — Ботвининское, Воронинское и Пустошинское. В Ботвининском озерке раз пробовали мерить глубину — связали две жерди и дна не достали. Лесник, Вася Арсеньев запускал в эти озерки рыбу. А так посмотришь — болото и болото. Как туда проходили на лодках? — Рассказчик подумал. — Как проходили? Вот по этой реке, по Пырошне. Прежде тут, видать, много воды было. На моих глазах сколько убыло… По разговорам, между Оковцами и Бредками был всего один переход. Вот здесь, на плотине, прибивали линейку — намеривали глубину по два с половиной метра. В иных местах доходило и до пяти метров. А теперь надевай сапоги да переходи.
Тихо шумело на перекате. По дну ходили мальки. Мы смотрели и смотрели вслед убегающей воде.
— Серьезная была река. Одних мельниц сколько крутила. В Антонихе, в Гремучем, в Оковцах… Ну а потом по ней лес пошел. Плоты. Я сам гонял. Свяжешь по шесть плотов один за одним, сделаешь руль из жердей и пошел. Это называется гонка. Течение быстрое. Воды много. Как погонит, понесет. Бывало, душа в пятки уходит. Всю гонку зальет. Бежишь сперва в один конец, потом обратно. Много лесу по этой реке вытаскали. Да и по другим рекам — по Коше, Тудовке, Песочне, Селижаровке…
Агафонов улыбнулся и посмотрел на сосны за Пырошней.
— Лес все хранит, все помнит. Кто как жил и чего делал. Вон тут в лесу кордоны — Антониха, За́беги, Дупло. Это охотничьи сторожки. Барин Шудбель туда на охоту ездил. Вон там хутор Лизочка — стоят две березы да куст сирени. Тут жила учительница, Лиза Захарова. Вот здесь Гремучий хутор — был такой музыкант, сильно играл на скрипке. Там сейчас кордон, живет наш лесник, Скоробогатов…
Читать дальше