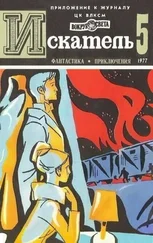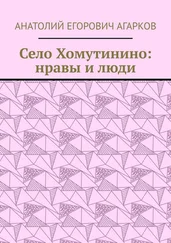— Как не быть? Я так разумию; следует двинуть пораньше.
Дворник, любивший подшутить над приятелем, с нарочитой опаской произнес:
— Между прочим, там мины раскиданы. Как бабахнет — волов твоих вмиг раскидает.
— Что волы? Худоба и есть худоба, — резонно возразил Лукаш. — Там червоноармейцы животы свои кладут, в ты — волы…
Василий Ерофеевич переглянулся с женой. Они-то уже раньше обо всем переговорили и пришли к единому мнению, что ехать совершенно необходимо. Так что Лукаш ломился в открытые ворота.
— Ты не серчай, Александр Илькович, — примирительно сказала Евдокия Михайловна. — Мы тоже так решили.
— Тогда ты свой пожарный инвентарь скинь да соломой не забудь возы притрусить, — сказал Лукаш Дворнику.
— Так и сделаем, — согласился Дворник. Не хотелось обижать друга, и потому Василий Ерофеевич не стал объяснять, что еще засветло вместе с Ваней освободил повозки от лишнего имущества. Но Евдокия Михайловна, не сдержавшись, улыбнулась. Муж с сыном часа два возились возле бочек и насосов, отвинчивая и стаскивая их в сарай.
— Прощевай! — сердито буркнул Александр Илькович. — Распустил ты свою жинку. Подумаешь, велика птаха — звеньевая, пятисотница!.. Негоже бабе в мужской разговор встревать!
С трудом успокоив расходившегося приятеля, Дворник условился с ним выехать из села в шесть часов. С тем Лукаш и ушел, намереваясь по дороге зайти еще к брату Трофиму, потому как любое дело вдвоем вершить сподручней.
Задав сено корове, Дворник разделся и лег. Взяв по привычке газету, хоть и десятидневной давности, он стал неторопливо, в который уж раз, просматривать ее от корки до корки.
«В Театре имени Тараса Шевченко прошла очередная премьера Украинского музыкально-драматического театра “Лимеривна” Панаса Мирного», — прочел он и горько усмехнулся. Теперь по театру небось германцы шастают, свои пьески показывают. Среди них, может, и тот жирный бауэр, на которого Дворник вынужден был работать в германском плену еще в первую империалистическую. А не он, так его сыновья. Радуются, сволочуги. Ну да недолго им веселиться. Недаром же пишут, что наши нынче Берлин бомбили.
Василий Ерофеевич перевернул страницу:
«Трудящиеся собирают теплые вещи для бойцов…» Верно. У них в селе тоже собирали. Всем миром тащили кто фуфайку, кто валенцы, а кто и тулуп. Жалко, конечно, отдавать свое, горбом нажитое, но разве ж народ не понимает, что солдату на снегу в окопе теплая одежда, что жизнь…
«Среди трактористов на селе развернулось движение двух-сотников». И такое было. Ребята из МТС на колхозных полях по двести процентов нормы за день вырабатывали. Да и бабоньки шибко нажимали, чтобы, значит, скорее хлеб убрать да озимые засеять. Кому только теперь все это добро достанется?
«В дружинах Осовиахима изучают военное дело», — попался на глаза заголовок, набранный крупным шрифтом. И Василий Ерофеевич подумал, что вся информация идет еще из той, прошлой жизни, хоть уже и не мирной, но привычной. Теперь она кончилась. Пришел на Украину германец, наступила недобрая година. Вот тут и зарыт главный вопрос: можно ли жить под германцем?..
В глубине души Василий Ерофеевич сознавал: жить нужно по-прежнему честно — это и есть главное. Чтобы не стыдно было потом людям в глаза смотреть. А уж что делать — обстановка подскажет.
Евдокия Михайловна, возившаяся у печи, гремела горшками. Было далеко за полночь. Иванко, спавший на печи, давно досматривал третий сон. А Софьи нет, ушла куда-то с девчатами. Но это не очень беспокоило Дворника. Дочь давно стала самостоятельной. Наверное, у подружки заночевала.
— Ты скоро, жена? — спросил он. — Час поздний, пора отдыхать!
— Сейчас, — отозвалась та и, громыхнув еще раз ухватом, вошла в комнату. — Гасить свет или нет?..
Задуть лампу она не успела. В окно, выходящее на огороды, легонько стукнули. Василий Ерофеевич встревоженно вскинулся. Кого нелегкая принесла? Время для гостевания неподходящее. И ежели кто пришел на ночь глядя, то определенно с бедой.
Стук повторился. Евдокия Михайловна накинула на плечи платок и пошла к двери. Прежде чем отодвинуть засов, спросила, кто там.
— Свои, — послышался мужской голос. — Отворите, люди добрые!
Опасливо приоткрыв дверь, Евдокия Михайловна отпрянула и едва не уронила лампу, которую держала над головой. В дверь ввалился высокого роста человек, весь сверху донизу в болотной грязи. На голове его каким-то чудом держалась сплюснутая офицерская фуражка. Лицо заострилось. Щека рассечена, и на ней запеклась кровь.
Читать дальше



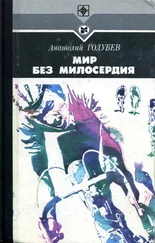
![Анатолий Полянский - Загадка «Приюта охотников» [Приключенческая повесть]](/books/395480/anatolij-polyanskij-zagadka-priyuta-ohotnikov-pri-thumb.webp)