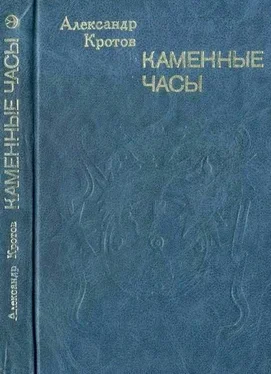Мать понимающе смотрела ей в глаза, но Анечке все равно не верилось, что вот так можно разговаривать с матерью, нарисовать и доверить ей самое тайное, что она держала при себе, не говорила никому.
И матери не говорила.
Но, несмотря на это, оказалось, та знала в ней все до последней капельки. И, наверное, уже знала, что отец подарит ей краски, холсты, подрамник, мольберт, и она захочет испытать себя еще раз с остро отточенным, как бритва, ножом в руке.
Анечка бросила нож в ящичек с красками и все смотрела, смотрела в мамино лицо. Улыбалась, хмурилась, кусая губы. Читала и читала лицо матери, ее глаза, мысли, старалась разгадать скорость ее жизни, не замечая при этом, что видит во многом лишь воображаемое, а не то, что запечатлел холст, где все выписано плохо, не было никакой гармонии, где полутона приобрели несвойственную им отчетливую резкость, почти пронзительность, исказив тем самым портрет, сделав его фальшивым, аляповатым, грубым и обманчиво живым для посвященного.
Но Анечка была уже влюблена в портрет, в то, что невольно ей открылось, и находила в нем все новые и новые достоинства и «не замеченные сразу, по интуиции написанные детали», которые оправдывали ее приезд к отцу, ей же объясняя, как через сострадание к себе человек способен сострадать другому.
Переубедить Анечку в обратном было бы невозможно, как и доказать ей, что попытка ее, отчаянная и прекрасная, стать художницей безуспешна.
8
Анечка вспомнила про обещанный сюрприз в записке Андрея Петровича, включила магнитофон и услышала голос отца. Он спокойно и чуть глуховато рассказывал:
— Когда я познакомился с твоей матерью, я служил в финчасти старшим лейтенантом. Увез ее в Казахстан.
Там она быстро заскучала.
Но я был влюблен и не сразу заметил, как много тогда говорили ее мимолетные взгляды. В них было недоумение, напряженное ожидание. Я это увидел, когда она уезжала в деревню родить Юрку.
Писала оттуда редко.
Потом наша воинская часть была переброшена на Север. И пролетело полгода. И странная пошла жизнь. Высылал деньги на дорогу — не ехала. Написала однажды: «Уже почти забыла, как ты выглядишь. Работать пошла в колхоз, так что денег много не высылай».
Я приехал. Выяснилось, что стал чужой.
Следующий год плохо помню. Слушал в каждом сне шаги Ирины Тимофеевны, боялся их прозевать, слышал их в полной тишине, как в детстве слушал материнские, тоскуя о ней в детдоме.
Товарищи сочувствовали.
Я тоже думал сгоряча, что Ирине Тимофеевне не хватило пороху жить в военном городке. Главное, как я сегодня понимаю, дело было вовсе не в этом, а в том, что я сам тогда не был готов заменить ей весь мир, который вдруг сосредоточился для нее во мне.
Она быстро устала от меня.
Я повторялся много раз на дню и не замечал этого. Не знал, конечно, что так вести себя с любимой убийственно для любви. Что любимых завоевывают всю жизнь, а не один раз, на что только меня и хватило.
Меня хватило на один-единственный раз. Многих лишь на это и хватает. Я был из многих. И она поняла, что я — из многих, а не единственный, которого любят всю жизнь не переводя дыхания.
Тогда я этого не знал. Мечтал, что она приедет ко мне все же, и боялся, что приедет. Боялся, что все повторится снова. Я чувствовал какую-то слабость и беспомощность своей любви. Мучился, что снова она меня будет любить очень мало и опять уедет, разочаровавшись во мне еще больше.
И она приехала через год. Шел третий день моего отпуска, и я мучительно соображал, на что мне его истратить.
Ирина Тимофеевна стукнула в дверь и вошла. Поставила чемодан у двери, а я продолжал ошеломленно сидеть за столом.
Щелкнули шпингалеты, и створки с пыльными стеклами заскрипели, расходясь в разные стороны, и свежий воздух коснулся моего лица.
— Вот я и приехала, Андрей, — сказала она.
Через месяц у нее снова стало портиться настроение. Снова она смотрела на меня с горьким недоумением, тоскуя о сыне. Будто опять я ее в чем-то обманул.
И ничего я не мог предпринять, чтобы ее удержать и ее любовь удержать. Ведь любила она меня в те дни! По-настоящему любила! Из-за этого и приехала.
Думая о своей любви, немощи своей в ней, я задумался, быть может, в первый раз о себе самом. Что же я есть на самом деле, если любят меня так скоро и бросают с таким чувством, что становится неловко и стыдно, обидно за себя.
Я провожал второй раз Ирину Тимофеевну и видел, как и ей неловко и обидно, что снова уезжает она от меня беременной и снова я ей мучительно непригож.
Читать дальше