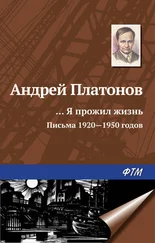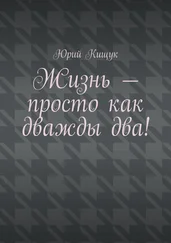— Мы должны смотреть на это дело не только глазами нашего уважаемого Семена Иосифовича…
Семен Иосифович прокашлялся в кулак и потянулся в карман за носовым платком, стремясь придать своему лицу равнодушное выражение.
— К каждому делу, — продолжал Волох, — следует подходить с позиций нашей общей идеи — всемирного прогресса, борьбы с пережитками прошлого и всякого рода суевериями. Мы не можем выдергивать из общей системы изолированные факты, это неразумно и противоречит законам диалектики. Семен Иосифович стремится вести нас по своего рода музейным комнатам, где повсюду выставлены древние кувшинчики, обветшалые мумии с надписями: «Осторожно! Руками не трогать!» Он нас ведет только к одному факту, на который кто-то указал пальцем. И все же между кувшинчиками, мумиями и рассматриваемым делом есть прямая связь. Не следует только все нивелировать. Пусть кувшинчик остается кувшинчиком, а мумия мумией, они были в своей эпохе, перешли в нашу. Мумии и кувшинчики бесчувственны и поэтому равнодушны. А прогресс начинается там, где кончается равнодушие.
Кирилл Михайлович волновался, потому что у него не выходило так складно, как он думал, для себя он умел быть более убедительным и непринужденным. Вероника машинально вертела в пальцах карандаш, бесцеремонно уставившись на Кирилла Михайловича. Бутончик, пластмассовая кукла с длинными изогнутыми ресницами. «Убери поскорее свои прожекторы, я уже и так весь пунцовый».
— Прогресс напоминает собою мелкие ручейки: бегут они меж камнями, оврагами, ищут, выбиваются вперед, а лишь добежали до водоема — остановились. Только-только люди нашли более-менее выгодную для себя форму существования — движение замедляется. Всем уютно, всех сковывает сытость, начинается массовая стандартизация и вовсе исчезает прекрасная многокрасочность, свойственная движению. И как только кто-либо нарушит утвержденный инстанциями биологической инертности стандарт, мгновенно объявляется тревога: «Все на защиту!» Вы, Семен Иосифович, хотите иметь музей с дорогими реликвиями, чтобы приглашать на экскурсии… А это же, как я убежден, не коллектив…
Кирилл Михайлович говорил неубедительно, по-книжному, и виною всему была
ВЕРОНИКА ЮРЬЕВНА ЛЯЛЬКО,
бутончик с утренней росой, пластмассовая кукла с большими синими глазами. У нее чудесные черные волосы, собранные на затылке в конский хвост, у нее белое, как молоко, лицо с густым здоровым румянцем, она всего лишь полгода работает здесь секретарем и почти ничего не делает, однако этого никто не замечает, потому что все видят только то, что она очень славненькая, хорошенькая. Семен Иосифович иногда берет ее за руку и с отцовским укором покачивает головой: «Вы снова забыли сделать это, правда?» — «Забыла, Семен Иосифович, больше этого не будет, честное слово». Родители ее работают учителями на селе, один раз в месяц она ездит домой и привозит оттуда лесные орешки, угощает ими всех, Семену Иосифовичу дает больше, чем всем другим, а сама грызет эти орешки, как белка. У нее ровные, крепкие перламутровые зубы. Словом, Вероника родилась для счастья, и ни у кого сомнений по этому поводу не было. Самой первой к такому выводу пришла, разумеется, ее родная мать, убедившая в своем мнении и отца Вероники, а позднее к этому выводу пришла и сама Вероника, бутончик с утренней росой, с ямочками на щеках. Она носила два имени: Вероника и Верочка или просто Ви — наша маленькая Ви. Она любила рисовать на всех собраниях и заседаниях вместо ведения протокола, она рисовала своих коллег, и, как правило, тех, кто выступал, поэтому всегда так пристально и бесцеремонно смотрела на них. И сейчас на чистых листах белой бумаги, приготовленной ею для писания протокола собрания, она рисовала и думала.
Жаль Василия Петровича, он добрый, иногда улыбается, правда очень редко, он не такой, как все. Другие — все, — а он — нет, и Семен Иосифович нет, а Иван Иванович, Кирилл Михайлович, Цецилия Федоровна, Гавриил Данилович… и другие. А я — не другие, я — оригинальная. Юра, смотри, как поразительно они похожи, две Вероники: пластмассовая и живая, наша. Ой, глазки мои синенькие! Больно было, всегда брала пальцами за подбородок, любя можно и задушить, я где-то слышала, как одна мать… Потом и сама. Какие матери глупые. Ты, Ви, должна стать врачом. А я не хочу, просто никем не хочу быть.
Кончик карандаша сломался, и Вероника капризно бросила карандаш на стол.
— Цецилия Федоровна, дайте, пожалуйста, мне свой карандаш. Спасибо, после собрания я верну.
Читать дальше


![Юрий Романенко - Взгляд через годы [Южная железная дорога за 130 лет]](/books/35651/yurij-romanenko-vzglyad-cherez-gody-yuzhnaya-zheleznaya-d-thumb.webp)