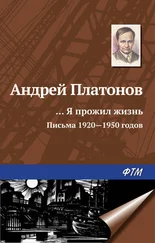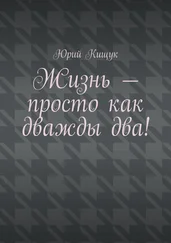Свет гаснет. Еще какое-то время узкое лезвие прожектора задерживается на белой фигуре Г у с а, стоящей со связанными руками, потом соскальзывает с обреченного и перемещается в центр сцены, Снова сидят там в своих величественных позах Ц а р ь и Е п и с к о п, окруженные придворными. По правую руку от Царя сидит М а л а, тоже гордая и самоуверенная.
Е п и с к о п (обращаясь к Царю) . Уста детей и младенцев будут вечно хвалить тебя, властелин, за то, что уничтожаешь врагов веры.
Внезапно свет падает на то место, где только что стоял Гус, и снова выхватывает С и д о р я к а из темноты. На нем уже мантия другого цвета, руки развязаны. Епископ и Царь испуганно вскакивают.
С и д о р я к. Не пугайтесь, я не Гус. Я бывший доминиканский монах Джордано Бруно.
Е п и с к о п. Мы тебя уже отлучили от церкви.
Д ж о р д а н о Б р у н о. За то, что я отстаиваю право разума.
Е п и с к о п и Ц а р ь. На костер!
Палачи связывают Джордано Бруно, но вскоре на его месте снова появляется Сидоряк. Теперь уже в роли К а м п а н е л л ы.
Е п и с к о п. Удивительно и уму непостижимо, как мог член духовного ордена, высокообразованный человек, впасть в отступничество.
К а м п а н е л л а. Моим призванием, сеньор, является установление новых законов, введение новых порядков в жизни.
Ц а р ь. Ничтожный человечек, твое призвание покоряться сильным, потому что они берегут твою жизнь и имущество.
Е п и с к о п. На костер его!
Палачи уводят Кампанеллу, а в другом конце сцены снова появляется Сидоряк в роли Д и д р о.
Д и д р о. У каждой эпохи есть свой особенный дух. Дух нашей эпохи — дух свободы. Если люди хоть один раз гордо взглянули в лицо небесного величия, они скоро встанут и против земного.
Дидро уходит со сцены, и тут же появляется Сидоряк в роли Р у с с о.
Р у с с о. Мы приближаемся к кризису и к эпохе революций.
Уходит Руссо, и свет падает на центр сцены. Лицо Царя искажено страхом и гневом. Он кричит:
— Арестовать всех! Связать! Повесить! Расстрелять!
В это мгновенье где-то совсем близко раздается выстрел, долго раскатывается эхо. И снова выстрел. Царь в отчаянии хватается рукой за ворот своей одежды, резким движением разрывает его и обессиленный падает в кресло. У него вид сумасшедшего. Придворные в страхе отстраняются от него. Вбегает стражник, сообщает:
— Ваше величество, в столице беспорядки.
— Повелеваю прекратить бунт!
— Это не бунт, ваше величество, это революция.
Царь отсутствующими глазами смотрит вокруг. Придворные, толпясь, толкая друг друга, в панике бегут со сцены.
Отец Малы, олицетворяющий буржуйскую жадность, шныряет по опустевшему дворцу, набивая карманы и засовывая за пазуху всякие мелочи.
И сегодня в этой сцене Антон Петрович увидел еще более выразительное, нежели тогда, когда он работал над драмой, свое, давно волновавшее его. Образ человеческой жадности и бездушия…
Это была необычная жадность человека, высмотревшего щелочку для личного счастья, которую искал всю жизнь. Он уже исходил весь белый свет, ощупал все уголки, как заядлый курильщик собственные карманы, но нигде не находил ни крошки, даже под ногти ничего не попало, не наскреблось. И когда был уже в полном отчаянии, неожиданно попала ему в руки корочка хлеба: женил его хозяин-мясник на своей порченой дочери, отдав за нее часть своей собственности. Вот к этой части он и привязал намертво свою жизнь, как к железному пруту, который должен был держать его на виду у всех людей. Расширялась лавочка — копейка к копейке, и душа вырастала — устремлялась к злому, к беде, хотя самому казалось: к добру, к счастью.
— Взяли мы, дочка, твою судьбу за рога, — хвастался, когда был в хорошем настроении. Правда, такое с ним случалось редко — он был по натуре своей человеком молчаливым и хмурым.
— А разве у судьбы есть они — рога? — спрашивала девочка, еще не зная жизни.
Дети рождаются от природы добрыми, и в их мире каждая вещь имеет прямое назначение: рога — чтобы колоть, хлеб — чтобы его есть, цветы — чтобы ими любоваться… Им еще недоступна мудрость злого опыта, где хлеб служит для того, чтобы замучить голодом, доброе слово — чтобы обмануть, клятва в любви — чтобы ославить…
Отец Василинки из года в год богател в своих прибылях, все более горбился, клонился к земле под собственной тяжестью: его незаметно засасывала жадность. Смерть жены, доброй и тихой, доконала его в этом смысле окончательно, потому что больше никто не мешал ему быть самим собою — безгранично жадным. И все более и более мир его интересов суживался, сматывался в клубочек, как малый щенок на сильном морозе. Вне собственного хозяйства для него было все чужим, с которым он должен был неустанно воевать. С годами приобрел даже походку атакующего: пригнулся, подался вперед, надвигал на глаза шляпу, чтобы замаскироваться.
Читать дальше


![Юрий Романенко - Взгляд через годы [Южная железная дорога за 130 лет]](/books/35651/yurij-romanenko-vzglyad-cherez-gody-yuzhnaya-zheleznaya-d-thumb.webp)