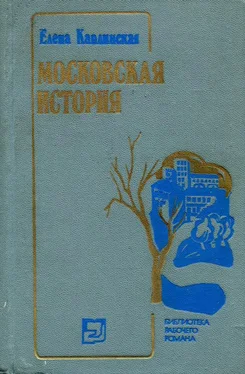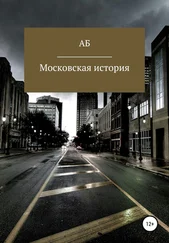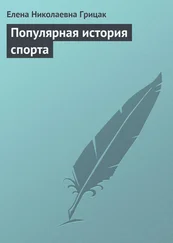Железное вращение (как в его юности говорилось) «колеса истории», на чей великий и неумолимый грохот сваливали все, что взывало к сомнению, вновь как бы стронуло с места проржавевшие колодки, оси, ступицы, шестеренки отодвинутого временем, как бы списанного на склад механизма в его душе. Тут была допотопность, уже неинтересная многим появившимся позже людям, сношенность, отработанность, непригодность к какому бы то ни было применению сегодня. Но как остро ощущал он в тот миг, насколько более счастливой оказалась правота этих новых людей, которые с позиций лет видели истинные причины событий.
А ему же, Ермашову, впаяно было тогда ощущение объективной неотвратимости «колеса истории», которое вертелось как бы само по себе, несоизмеримое с волей простого смертного. Им, новым, не приходилось этого переступать в себе, а ему, Ермашову, приходилось. Даже до сих пор. Поэтому сердце так колотилось, путаясь между радостью и тоской. Ермашов принадлежал сразу двум измерениям — и тому и этому — и не мог разделить себя пополам. Даже тогда, когда он боролся и был побежден «колесом», даже тогда он был цельнее. Быть может, то оправдание было легче, не так обидно было его принять.
Ермашов шел по последнему изгибу коленчатого переулка, до завода оставалось всего ничего, а наверху, в куполе неба, надтягивала уже серьезная тучка с темной сердцевиной, из тех, которые шутить не любят и сразу окатят как из ведра. Он переложил папку с документами из руки в руку и надбавил шагу.
Чувство молодости исчезло. Но зато Ермашов понял, как соскучился по заводу, вот по этому старому зданию, где не был уже пару месяцев. Захотелось пройти по длинному коридору, заглянуть в стекольный, подняться в цех кинескопов; как Иван Калита, он по осколочкам набирал доброту, подаренную ему в этих стенах, теплоту дружбы, благородство сочувствия. Все будет сейчас на вес золота, ведь только это и нажито.
Он радовался при мысли о том, что увидит сейчас, например, Павлика, с которым, говорят, не разговаривает Дюймовочка с момента его «глупой женитьбы на этой рыжей, как ее». Радовался непоколебимой холодной твердости Ирины Петровны. Радовался спокойной, увертливой деловитости Дюкова и даже осторожной усталости Рапортова, радовался всему многообразию лиц, которые могут встретиться ему за знакомым порогом, радовался, что он знает там всех и все знают его до мельчайших подробностей характера и привычек. И в этом знании кроется спокойствие и надежность. Там тебя в лишнем не обвинят, лишнего не припишут, лишнего не истолкуют, там уже все известно, все принято, как оно есть.
Беден, у кого этого нет.
В дирекции Ермашов поздоровался с Дюймовочкой, она не ответила.
— Здравствуйте, Марьяна Трифоновна, — повторил он, подходя к ее столу.
— Отметила, — выцедила Дюймовочка краешком губ и ткнула карандашом в список.
— Благодарствую, — склонился Ермашов, но она уже глядела мимо. Здесь все оставалось незыблемым.
В кабинет входили спешащие люди, и незнакомцы, приехавшие со смежных заводов, и новые молодые начальники цехов — Ермашов поразился, как быстро сменились лица, как решительно Ижорцев провел эту работу.
Значит, будет труднее объяснить им, на чем он выстрадал свою точку зрения. Меньше шансов, что его поймут. Ничего не поделаешь.
Ермашов открыл дверь в свой бывший кабинет — и остановился на пороге. Белизна! Стерильная белизна! Чистые углы без теней, без ниш, без темных складок бархата знамени. Все открыто, все доступно, все ясно. Все можно потрогать рукой.
Ижорцев стоял в центре, на белом ковре. Увидя Ермашова, подошел к нему, мимоходом пожал руку и направился за свой стол.
— Товарищи, пора начинать.
Расселись. Ермашов, перегнувшись к соседу, спросил шепотом:
— А знамя куда вынесли?
— В парткоме, — ответил тот, раскладывая бумаги на столе.
Ангелина Степановна стала собираться в поход сразу после того, как у нее побывали «племяши», это сосед сантехник Костя заметил без труда. Старушка действовала по всем правилам спортивной тренировки. Обула новые туфли образца тысяча девятьсот пятидесятого года и расхаживала их с утра по коридору с завидной выносливостью. Затем достала из шкафа и вытряхнула от нафталина полосатый жакет. Основательно напившись кофе с молоком, для поддержания тонуса, она облачилась в блузку, навесила у воротника брошку-камею.
Ангелина Степановна шла к метро.
Недомогание — верный спутник лет — заставляло ее двигаться настороженно, и взгляд чутко ловил возможность возникновения помех, которые могли бы оказаться непреодолимыми. Лучше пропустить вперед вот этого молодого мужчину — а то невзначай заденет, и я упаду. Его силы — и мои… Возле ступенек подземного перехода обязательно надо обнаружить перила — боже, как далеко, целых три ступеньки до них. Сразу видно, что строили молодые. Ах, смешные проблемы старости. Кто-то сострил: если после сорока вы не чувствуете никаких болезней — значит, вы умерли. А ей сорок было целую вечность назад.
Читать дальше