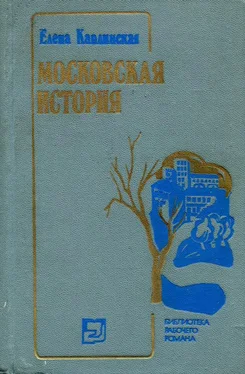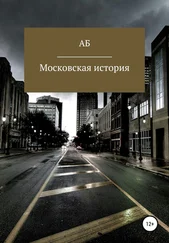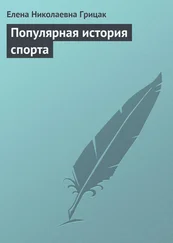— Как же так? — тихонько спросил Ермашов. — Разве это жизнь? Ведь для него она только начинается. Не может быть. Это несправедливо.
Елизавета стояла рядом. Ермашов думал о себе. Думал о том, как вызвал зама по кадрам и приказал ему оформить Юрочку. Веремеев сказал: «Я законы нарушать не собираюсь. Надо вам — ставьте свою подпись на листе». Ермашов поставил. Ему было надо. На то он был и директор.
Двинул в бой бесценный резерв. И погубил. «Это я. От начала и до конца. Я задумал «Колор». Я его осуществил. Я старался вдохнуть в него жизнь. Старался обогнать время. Вот где ошибка. Я думал о заводе, не о людях. И проглядел, что с ними произошло. Я не знаю, какие они на самом деле. Я рассчитал свой «Колор» только на таких, как Юрочка. А они не все такие. И даже не все могут стать такими. Тут, кроме моего желания, кроме слова, еще требуется что-то. Что уже вне моих возможностей.
Я потерял силу. Больше я прежними средствами уже ничего не смогу. А новых у меня нет. Все мое израсходовано. Я пуст».
Он встал из-за стола, сказал Елизавете:
— Я очень устал. Поеду домой, мне надо выспаться.
Елизавета кивнула:
— Хорошо.
Был ясный день. Он приехал в нагретую, но ставшую нежилой за эти дни квартиру. Задернул шторы, достал из аптечки флакон с таблетками. Высыпал их в горсть…
И сейчас Ермашов душою благодарил почему-то не Елизавету своим невероятным женским чутьем спасшую его, вернувшую, — не любимую свою, единственную Елизавету, которая теперь была больше Ермашовым, чем он сам, была вместо него там, где он потерял силы, — у того маленького, ссутулившегося, осевшего пожилого человека, оказавшегося возле его постели в палате. Открыв глаза, увидев, узнав Фестиваля, Ермашов поразился его появлением, его видом, протянул к нему руки и заплакал.
Фестиваль шмыгал носом, поправлял сползавшие очки, рассказывал, что у него в цехе появился ученик, паренек со смыслом, ученика-то теперь не допросишься, самим приходится обдирать каркасы, делать простую работу, к которой раньше мастер не прикасался. Так что ученик — это здорово, сам к нему напросился, и теперь Фестиваль ходит королем, к машине прикасается лишь шабером, микронную чистоту наводит…
В палату явилась нянечка, наорала, что наследил ногами. Фестиваль схватил тряпку, чтоб подтереть, испугался. Ее напора и злобы. Хотел успокоить, смягчить. А у нее что было дома? Такое ли, как у него?
Есть люди, которые считают работу оскорблением.
А производство — вечно.
«Дядя Женя, привет вам, — нацарапал Юрочка в записке. — Выздоравливайте скорее». Он пролежал столько часов, то теряя сознание, то очнувшись. Стеснялся крикнуть. Думал, отлежится, станет лучше и пойдет домой.
Юрочка никогда не будет больше ходить.
Но в то утро, в день его операции, Ермашов теперь это точно вспомнил, позвонила Алиса и сказала: «А вы знаете, вы правы. Сегодня на рассвете я увидела: ваши кентавры действительно бегут!»
Ермашов подходил к заводу. Ему казалось, что вокруг ничего не изменилось, и сам он не изменился, просто побыл где-то и вернулся таким же, каким был в тот день, когда вел сюда за руку свою молодую жену, замирая от любви и восторга, от всесильности своих знаний, от снисходительного сочувствия призраку инженера Евреинова. Вспомнился старый стеклодув и наивная мудрость легенды: «Война — временное бедствие, политика — однодневные страсти, только производство вечно».
Башенки завода разрумянились в утреннем солнце, и вдруг откуда ни возьмись косой бисерной сеткой пал дождичек, быстрый, хитрый, ловкий. Женщины на улице засуетились, доставая из сумок складные зонтики, оберегая прически. А дождик тут же отступил, сник, оставив веснушчатые мостовые.
Ермашов вдыхал непостижимый запах дождя, глядел, глядел — и видел белый потолок, где уже совсем четко ползли, ползли узоры занавески, и, наконец первый солнечный луч, как листок из лопнувшей почки, проскочил среди них, серых узоров, и легко, озорно тронул неподвижную цепь. И тогда веселые, толстенькие кентавры из детства шевельнули торсами, просыпаясь, и побежали, побежали! Врываясь в розовые гирлянды круглыми яблочками девичьих грудей.
Догоняя друг друга. Вечно.
— Слушай, папаша, — кто-то сбоку тронул его за локоть, — рубля не будет?
Ермашов обернулся. Высокий бородатый парень в безрукавке с цветным олимпийским мишкой на груди сощурился, увидев его лицо. И, махнув рукой, заспешил в обратную сторону…
Нет, все было. И от этого никуда не денешься. Были годы, были надежды, были победы, были ошибки. Начинать сначала уже, видимо, и не надо. Но надо другое, и очень многое. Зачем закрывать глаза: жаль, что придется теперь с меньшими возможностями. С ослабевшим авторитетом, с виной на совести.
Читать дальше