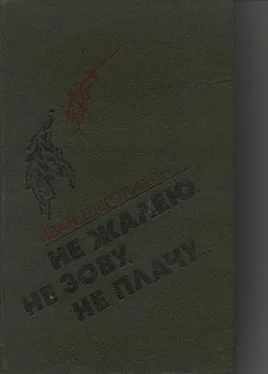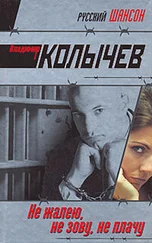согрешила бы только один раз». Наверное, он увидел в моем ликовании после
амнистии глупую радость и решил меня остудить, дескать, не зарекайся. Он хотел мне
добавить мудрости. Я бы любому сказал три слова: больше не попадайся! И повторил
бы сто раз, причем от души. У Левы же другая мерка. Не тюрьма права, а свобода. Их
дело сажать, а наше – не мандражить и жить, как хочется.
Я не спал, томился и всё шарил ладонью по темени – много ли отросло? Сразу же
поеду в Алма-Ату, к Ветке, а потом уж домой. Проеду по Сибири вольным. Еще раз
посмотрю на станции: Тайга, Юрга, Пурга. Вета будет встречать меня на вокзале. Где
та рука благословенная, что повернула наш подкоп вдоль запретки? Не попал бы я ни
под какую амнистию.
С самого утра возле штаба толпа, вызывали по одному в спецчасть, уточняли
данные и брали подписку о неразглашении всего того, что видел и слышал. Объяснили:
судимость ваша снята, и вы имеете право в личном деле писать «не судим» (со
временем дорого мне обошлось это позволение).
Вечером зашел Гаврош – как выходишь, видуха в порядке, может, чего надо? Да
всё есть, спасибо, только туфли драные. Посидели с ним полчаса, заварили чифир,
поговорили, появился шестерка, на горбу мешок, и по кивку Гавроша он картинно
вытряхнул передо мной пар двадцать обуви – широкий босяцкий жест. Мне нужен
сорок четвертый размер, пары три нашлось, но что-то меня сдержало, я решил ехать в
своих драных. С Гаврошем обнялись, я ему адрес дал, попросил написать, как выйдет.
Он тоже подпадал, но весь рецидив пока задерживали.
Еще был разговор со Светланой. У нее обыденное безрадостное лицо. Она мне
пожелала сразу: я верю, вы никогда сюда не попадете, я убеждена, Женя, вы окончите
институт, будете хорошим врачом, я вам желаю, чтобы и на литературном поприще
были успехи, – всё, что надо сказала. Потом призналась, приехала сюда ради своего
племянника, он сидел в нашем лагере, но пока она добиралась, пока устраивалась, его
отправили по этапу. Он тоже студент, судили его по 58-й. Не назвала ни имени его, ни
фамилии. Но какая молодчина, как самоотверженно ринулась к черту на рога.
«Его не освободят, Женя. – Она говорила со мной откровенно, я не выдам, не
продам. – Политических не касаются никакие амнистии. А это, в основном,
интеллигенция. Освобождают только уголовников».
Я понимаю. Я разделяю ее печаль, я ей сочувствую. Но как-то так получается,
порядочной женщине нельзя порадоваться моей свободе. Настоящая интеллигенция не
хочет, не может, не имеет морального права приветствовать выход из лагерей
миллионов мужчин и женщин, стариков, старух и подростков, – нельзя этому
радоваться, потому что остаются сидеть политические. Безнравственным выглядит
наше освобождение, прямо хоть оставайся. «Только уголовников». Нет, не только,
давайте уточним. Ворья, рецидивистов совсем немного. Убийцы и бандиты не
подлежат амнистии. Освобождаются за преступления должностные, хозяйственные,
бытовые, военные – надо бы разделить, надо бы интеллигенции применить интеллект и
подумать, не быть такой чёрствой, бесчеловечной. Много сидело честных тружеников,
просто попавших в беду. Шофера, например, за разные дорожные случайности,
машинисты, работники железнодорожного транспорта, их сажали сразу кучей после
любой аварии, можно ли их называть уголовниками? Должностные в горнорудной
промышленности, внизу кого-то завалило, а всем, кто на верху – срок. Служащие
всякие за нерасторопность, не успели выполнить приказ дуролома свыше, – они тоже
уголовники? Или ученики подожгли уборную, а директора школы под суд. По закону о
прогулах от января 1940 года давали до 10 лет за опоздание на работу, а женщине в то
утро не с кем было оставить больного ребёнка, – она тоже уголовница? Тысячи людей
пошли по лагерям в голодные послевоенные годы по указу от 4.06.47-го – за бутылку
молока, за шоколадку, за кусок масла, за пачку папирос. В приговоре писали:
«Хищение 250 метров текстильной продукции», – вот какие хапуги, а оказывается, это
катушка ниток. А сколько сидело за аборт и женщин, и мужчин-абортмахеров, и тех,
кто предоставил квартиру для операции. А юных девушек из торговли, продавщиц,
которых дурачили старшие? А секретарш сколько и курьерш? Не дала своему
начальнику, и он запросто приклеит ей контрреволюционный саботаж. А взять
воинские преступления? Ребята с 26-го и с 27-го годов рождения служили по 6, по 7
Читать дальше