— Бурлак — это глыба, — весомо и непререкаемо говорил Юрник всякому, кто интересовался личностью управляющего.
И он не кривил душой, искренне веря в то, что Максим Бурлак — личность исключительная, наделенная редкостной памятью, организаторской хваткой и многими иными замечательными качествами, среди которых не последнее место занимали такие, кои характеризовали Максима Савельевича как примерного семьянина, редкостного мужа и отца.
И вдруг… Как выстрел из-за угла в незащищенную, слепую спину.
Бегство Марфы и скоропалительная замена ее Ольгой Кербс потрясли Юрника, лишив его какой-то, возможно и неосознанной, может, даже надуманной, реально не существующей, но очень важной жизненной опоры. Марфа казалась ему образцовой женой, матерью и хозяйкой, идеалом женщины. Юрник любил ее возвышенной, чистой любовью, ни разу не усомнясь в святости и незыблемости этой семьи. И теперь он не судил Бурлака, сострадал ему, уверенный, что Бурлак случайно сбился с шагу, раскаивается и страдает. Юрник хотел и не знал, как помочь несчастному Бурлаку, и оттого мучился…
Каждый вечер, перед тем как разойтись по домам, заместители управляющего и главные специалисты сходились в кабинете Бурлака на вечернюю летучку и, наскоро обсудив события дня прожитого, решали неотложные задачи дня еще не наступившего.
О хлебе насущном и хлебе духовном, вверенных им судьбах людских нужно было говорить неспешно и вдумчиво, без помех, без нудных, непрестанных телефонных звонков и настырных посетителей, которые лезли «на минутку», «на секундочку», что-то очень неотложное решить, подписать, выяснить. Поэтому «бытовые» нужды Юрник с Бурлаком обговаривали наедине, после того как расходились участники вечерней летучки.
После бегства Марфы все незыблемое стронулось с извечных мест, равновесие нарушилось, вечерние летучки у Бурлака стали собираться нерегулярно, и были они краткими, поспешными, невесомыми. Бурлак то и дело взглядывал на часы, сидел в кресле нетвердо, часто вскакивал, выбегал из-за стола, перебивал, не дослушав, решал с маху, не всегда верно, но возражений и споров не допускал. Не привыкшие к такому повороту заместители и главные на рожон все-таки не лезли, уверенные, что этот сбой временный, вызван личной неурядицей, и, как только она закончится, так все и образуется, и возвернется на круги своя.
Верил в это и Юрник. И тоже терпеливо ждал, когда деловая жизнь треста войдет в прежнее русло, а сам копил и копил вопросы, требующие вмешательства управляющего. Однако время шло, а Бурлак не возвращался «на круги своя». Терпимое стало срочным, потом неотложным. И на очередную скоропалительную вечернюю летучку Юрник явился с толстой папкой, завидя которую Бурлак кисло сморщился.
— Что там у тебя? — с досадой и обидным небрежением торопливо спросил Бурлак, когда кабинет опустел.
Поспешно, будто она жгла ему руки, Юрник кинул папку на край столика, смущенно, с заминкой сказал:
— Может, перенесем? Вы, похоже, торопитесь… сегодня…
Это приметное смущение, скользнувший в сторону взгляд и недвусмысленный упрек в торопливости больно зацепили Бурлака, и он резко спросил:
— А в чем дело?!
Опустил глаза Юрник, пошевелил нервно плечами, оторвал их от мягкой спинки кресла и будто одеревенел. «В чем дело — знают все. Не надо срывать зло на ближних. Сам себя в цейтнот загоняешь. Хоть бы Лену подождал. Как с привязи сорвался…» Меняя позу, глухо, скороговоркой выговорил:
— У вас всегда на первом месте были интересы треста…
— Были! — азартно и зло выкрикнул Бурлак. — Были! И что? Что ты хочешь сказать! Были, а теперь нет? Да? Так?!
Небрежным властным жестом сдвинул на край стола какие-то бумаги. И, глянув в глаза Юрнику, снова спросил угрожающе наступательно:
— Ты это хочешь сказать?
— Я не судья. Не мое дело…
— А зря! — с наигранным огорчением воскликнул Бурлак. Похоже, настроение его вдруг переломилось, и долго копившееся, перекипавшее в душе хлынуло наружу. — Зря! Не посторонний. Друг. Пожалуй, единственный, в ком я не сомневался…
Никогда прежде Бурлак не говорил подобного. Оттого и растрогался Юрник, обмяк, едва не прослезился. Поспешно вытащил сигареты, закурил. И выдохнул вместе с дымом первой затяжки:
— Потому мне и больно. И обидно. И горько…
Вроде бы не слыша этих слов, отчужденным, в себя нацеленным взглядом, глядя куда-то мимо собеседника, Бурлак болезненно спросил:
— Ты знаешь, что такое любовь?
Читать дальше
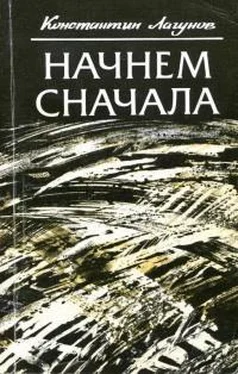

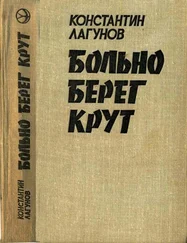







![Константин Лагунов - Красные петухи [Роман]](/books/423980/konstantin-lagunov-krasnye-petuhi-roman-thumb.webp)

