— Папуля! Здравствуй! Трижды звонила домой — никто не отвечает. Что-нибудь случилось?
— Здравствуй, дочка, — как можно веселей, приветливей и мягче откликнулся не готовый к этому разговору Бурлак. — У нас холодище. Пошла труба. Все на трассе…
— И мама? — вклинилась Лена.
— Ты же знаешь свою маму! — браво и усмешливо откликнулся Бурлак, презирая себя за фальшь, и, норовя отвлечь дочь, опять заговорил о строительстве трубопровода.
— Как мама? — снова перебила Лена.
— Нормально, — ответил встревоженный Бурлак, не зная, что еще можно сказать, и страшно боясь дальнейших расспросов.
«Хорошо, не уехал, дозвонилась. Вышла бы на Сталину, та непременно брякнула бы… А не миновать. Что скажу? Обдумать. Приготовиться…»
Еще ни разу он не подумал о неизбежной скорой встрече с дочерью, не приготовился к ответу на ее главный вопрос. И теперь, боясь, что Лена может уловить его тревогу, и не желая заронить ей в душу малейшее подозрение, Бурлак поспешил стрельнуть встречным вопросом:
— Как ты там, на бреге Каспия? Скоро домой?
— Все хорошо. Скучаю. Вряд ли дотяну до звонка. Готовь место под крылышком. Как Арго?
У Бурлака вдруг заклинило горло. Нутром учуял он дочернее неприятие случившегося. «Не примет… Не простит… Отшатнется… Потеряю…»
— Але! Папуля! Где ты?
— Слушаю, — еле выдавил он из стиснутой спазмой глотки.
— Жив ли пес-барбос, бархатный нос?
Уже три дня не переступал Бурлак порог своей квартиры, не видел пса и, решив, что сделает это сейчас, по пути на вертолетную, прежним бодрым голосом откликнулся:
— Жив и здоров бродяга. Ждет не дождется хозяйки с большущей шоколадкой. В театрах-то была?
— Перебьюсь. Поедем с тобой в Москву — посмотрим…
«Поедем ли?» — кольнуло Бурлака в самое сердце, и то вдруг заныло, и сразу как-то потускнело вокруг, поблекло, будто солнце накрыла туча, кинув на мир огромную, прохладную, серую тень. Он слушал до боли родной голос дочери, отвечал на ее вопросы и сам о чем-то спрашивал, но думал совсем не о том. «Разыгрался Ромео. Спасибо Марфе. Достало и мудрости, и силы. Трассу — и ту на кон. Еле отлепился… Трезво обдумать, решить, подготовиться. Чтоб к приезду Лены все точки расставлены… Уже расставлены. Кроме одной, Лениной…»
— До свидания, папа, — прозвенело над ухом. — Будь счастлив! Поцелуй маму. Угости Арго шоколадкой, скажи, что от меня. До встречи…
— Целую, прекрасная Елена. Все исполню. До свидания, дочка…
И опять пересохло в горле. Не последний ли раз говорят они вот так, как говорили всегда. Если и не отшатнется, не отломится, трещины не миновать… «Залечу. Залижу. Заглажу. Любит. И я чем угодно поступлюсь. Чем угодно… Кроме Ольги. Вдруг или — или?.. Нет. Не дойдет до этого. Не дойдет…»
Долго держал в руке трубку, наполненную рваным зуммером. Сознание Бурлака воспринимало этот писк как далекий, очень далекий и безнадежный сигнал бедствия. И тревожно, и холодно становилось на душе. «Что я скажу? Что?..» Беспомощность неожиданно высекла искру ярости. «Что есть, то и скажу. Не девочка. Должна понять…» А знал и был уверен, что Лена не поймет. Не сумеет. Не захочет понять. Оттого взъярился пуще прежнего. «Почему я должен перед всеми отчитываться? Перед каждым — душу нараспашку? Не ЭВМ. Не робот. Есть во мне и тайники, и подполье. Туда и сам-то носа не сую… Ленка поймет. Переболеет. Перемучается. Но поймет. Всю жизнь — на одной струне… Поймет…»
— Поймет! — сердито, с неприкрытой угрозой и вызовом проговорил он.
Небрежно кинул жалобно пищавшую трубку на рычажки аппарата.
Прерывисто вздохнул.
И ни следа растерянности на суровом лице.
И никакой расслабленности в твердой и четкой походке.
Ему не за что себя казнить, не в чем упрекнуть. Все, чем был силен и богат, — все отдам семье: Марфе и Лене. Ни похождений, ни увлечений, ни мимолетных страстей: чист как родник. А любовь — неподсудна никому. Даже Лене. Тем более ей…
Рывком натянул полушубок. Нахлобучил меховую ушанку. И пошел из кабинета, на ходу доставая из карманов перчатки.
Когда садился в «уазик», что-то как будто кольнуло под лопатку. Резко обернулся и увидел прижавшуюся к углу конторы Ольгу. Он не разглядел выражения ее лица и глаз, но от всей ее закутанной, чуть сутулящейся, будто силой притиснутой к углу фигуры повеяло смутным беспокойством, растерянностью и тревогой. О нем беспокоилась, за него тревожилась Ольга. И бог знает сколько простояла она тут, на карауле. На лютом пятидесятиградусном морозе. Доступная огненным порывам злого, кусачего ветра. На виду у всех…
Читать дальше
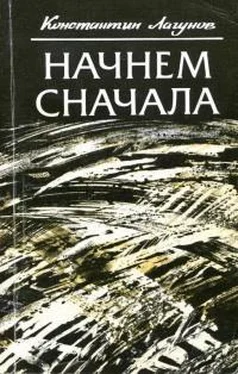

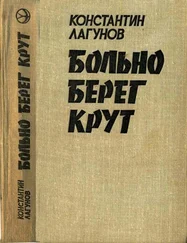







![Константин Лагунов - Красные петухи [Роман]](/books/423980/konstantin-lagunov-krasnye-petuhi-roman-thumb.webp)

