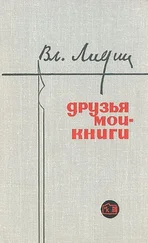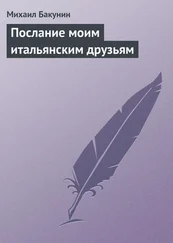— Кому какое дело до того, что у меня один глаз? И зачем мне, скажи на милость, говорить, что я — Карл меня звать — не вижу, если одним глазом я вижу лучше, чем ты двумя? Не веришь? Пошли на пари на пачку сигарет, что с первого выстрела попаду в того долговязого на платформе.
Сказано — сделано. Карл улегся между двумя шпалами, винтовку плотно прижал к плечу. Рядом с ним его пес, острая морда — на передних лапах. Длинный красный язык мелко дрожит. Пес шумно втягивает воздух, затем из-под его черного влажного носа поднимаются два фонтанчика пыли. Он не смотрит на своего хозяина, но следит, кажется, за каждым его движением. У Карла от напряжения набегает на лоб глубокая складка, а у пса на шее шерсть встает дыбом и в больших, навыкате, глазах с красноватыми белками начинают сверкать зеленые огоньки.
Человек, в которого Карл целится, стоит неподвижно, словно искушая судьбу. Что делать? Молчать я не имею права. А закричать — значит проститься с жизнью. Человек стоит так далеко от меня, что и знака я ему подать не могу. Вокруг напряженная тишина, даже маневровый паровоз и тот перестал гудеть.
— Погоди, — эсэсовец нагнулся и тронул Карла за плечо. — Сперва стреляй в кого-нибудь из своих. Попадешь — пачка сигарет твоя.
— Нет, этого я сделать не могу. Все пленные пересчитаны.
Карл снова целится.
— Что здесь происходит? — раздается голос фельдфебеля, который идет к нам вместе с Гюнтером. — Карл, в кого ты?
— В еврея.
— Встать! Проклятье! На минуту нельзя вас оставить одних! Забыл, что ли, приказ начальника гарнизона? Строго запрещено стрелять в черте города без крайней необходимости.
— Господин фельдфебель, — отозвался эсэсовец, — так ведь я тоже не знал, что нельзя стрелять в еврея без особого разрешения.
— Не в евреях дело, а в стрельбе, в ненужном шуме. Отведите их подальше в поле и расстреляйте хоть всех до единого.
Одетый в рваный, кургузый пиджачишко явно с чужого плеча, в брюках из мешковины, худой, заросший человек, чья жизнь только что висела на волоске, стоит как ни в чем не бывало и громко, в голос, командует:
— Раз, два — взяли! Раз, два — выше! Раз, два — еще выше!
А когда поднять выше тяжелое бревно у истощенных людей не хватило сил, он сам плечом подпер его, толкнул и сбросил на полозья.
Кто он, тот, на платформе? Кем был когда-то? О чем сейчас думает? Какая разница! Если он еще жив, то не потому, что его охраняет закон, подобно тому как охраняет вход в вагон проволочка с пломбой. Нет, он остался жив только потому, что его смерть могла вызвать ненужный шум.
Только сейчас я почувствовал, как у меня пересохло во рту. И сразу вспомнился ручеек, мимо которого мы недавно проходили, медвяный запах светло-зеленых лип, густая тень стройных тополей. Ручеек был так мал, так медленно тек и так устало журчал, что казалось — вот-вот исчезнет, иссушенный жаждой. И только широкий Днепр, с шумом несущий где-то совсем рядом свое могучее тело, напоминал, что маленькие ручьи превращаются в полноводные реки.
Карл злится. Его ременная плетка со свистом рассекает воздух и опускается на Кузины плечи, на его голову.
Одноглазый достает из вагона короткую лесенку и, подвесив ее на дверную задвижку, приказывает Кузе влезть в вагон. Лесенка не достает до земли, качается из стороны в сторону. Поддержать ее Карл не разрешает, а в вагоне нет никого, кто мог бы протянуть Кузе руку.
Третий раз плетка впивается в Кузины распухшие ноги. Счастье его, что он лежит животом на металлической планке, почти в вагоне, и что Карл не понимает ни единого слова из тех ругательств, которыми его кроет Кузя.
В середине вагона досками выгорожено место для конвоя. Пол посыпан известкой. Конвоиры притащили и разостлали на полу охапку душистого сена. Половина вагона занята пустыми ящиками. Гюнтер разрешает нам открыть одно оконце и присесть на полу.
Солнце садится. Здесь, где до станции с ее шумом и сутолокой далеко, а до полей рукой подать, стало вдруг тихо — так тихо, что слышно, как лепечет листва на деревьях, на каждом дереве по-своему: на березе — легко, шаловливо и весело, на осине — задумчиво и немного испуганно… А стоял бы здесь дуб, подумал я, ни один листок не шелохнулся бы от такого ветерка.
Наступающие сумерки заволакивают все вокруг серой дымкой. Откуда-то наползают длинные тени. Сквозь приоткрытую дверь вагона тянет свежестью, влажным запахом земли.
Я прикорнул около Кузи. Он сидит согнувшись, сжимая обеими руками распухшую щеку, и по своему обыкновению тихо, но замысловато ругается. Спрашиваю:
Читать дальше