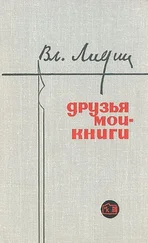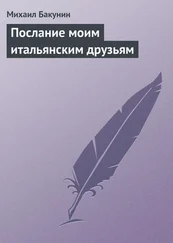— Знаю, Гюнтер, в Венском университете вас этому не обучали. Так ведь при такой лысине можно быть и поумнее. — Он махнул рукой в сторону дороги и самодовольно ухмыльнулся. — Вон они идут сюда. Можешь проверить.
Кому, кому, а нам-то сразу стало ясно, что из двенадцати приближавшихся к нам арестантов только четверо бежали из лагеря. У троих руки были скручены за спиной, четвертого несли на маскхалате.
Остальные восемь были так называемые «примаки» — красноармейцы, попавшие в окружение и оставшиеся в деревнях. Одеты они были по-деревенски и по сравнению с нами, пленными, выглядели как люди из иного мира.
Знали ли они, что ждет их в лагере? Безусловно. Почему же они, как батраки, копались на огородах, а не ушли в лес? На этот вопрос трудно ответить.
Курт заметил красные кресты у нас на рукавах.
— Не худо бы твоим «медикам» проверить, жив ли он или уже капут, — сказал он, ткнув пальцем в сторону лежащего на маскхалате пленного. — Когда вешаешь мертвеца, говорит Шульц, эффект не тот. Но вешать мертвецов безопаснее. Помнишь того русского, которого повесили сразу после Нового года? Кожа да кости, в чем только душа держалась, а все же успел лягнуть Губерта в пах, а Шульцу плюнул в лицо.
Установить, дышит ли еще человек, лежавший на маскхалате, было нелегким делом. Жизнь едва теплилась в нем, пожалуй, медики поопытнее нас могли ошибиться.
Не годы изрыли его лицо глубокими морщинами. На синей, распухшей, покрытой ранами и волдырями руке вытатуировано: «Вася — 1920».
Где-то он родился, где-то жил — на Енисее или на Волге, в большом городе или в маленькой деревушке. Был славным парнем. А осталось только горе матери, которая на все запросы будет получать один ответ — сын ее Василий пропал без вести.
И если матери Василия суждена долгая жизнь, она всегда будет вздрагивать, когда скрипнет калитка во дворе или зазвенит звонок на двери ее квартиры… Почтальон будет виновато обходить ее дом стороной, а она каждый день будет ждать его и верить, что однажды он принесет ей долгожданную весточку. Время точит камень, с годами многое забывается, но везде и всегда все будет напоминать матери о ее невернувшемся сыне…
Нет, Василий не должен быть забыт. У памятника, который будет когда-нибудь воздвигнут без вести пропавшим, пусть будет произнесено и его имя.
Гюнтер не подал Курту руки при прощании. Большим голубым в клетку платком он вытер очки и приказал нам двигаться в путь.
Могилев, древний город на Днепре…
Уж полдень, а улицы и переулки безлюдны. Дом с наглухо закрытыми ставнями. Дворы без детского гомона и смеха.
На углу стоит пожилая женщина с добрыми, усталыми глазами. Платок на голове повязан по-деревенски, на ногах лапти. В руке плетеная кошелка. Когда мы приближаемся к ней, она вынимает несколько вареных картофелин и, указывая на нас, спрашивает у Гюнтера:
— Пан, можно?
Он не отвечает, но, внезапно закашлявшись, отворачивает голову. Другого ответа ей не надо. Она идет за нами до конца переулка и сует каждому в руку по две картофелины. Сварены они уже давно — кожица сморщилась, как лицо у старушки.
— Дай тебе бог здоровья, бабуся, — шепчет елейным голосом Шумов и истово крестит ее издали.
Конвоир с лицом, перечеркнутым черной повязкой, закрывающей один глаз, замахивается на нее нагайкой:
— Убирайся отсюда, русская свинья!
Даже под такой охраной мы здесь ближе к свободе, чем там, в лагере. Здесь и небо кажется более высоким и пыль на листве придорожных деревьев — не такой удручающе серой.
Минуем улочку за улочкой. Незаметно для себя перестаю обращать внимание на злую ругань конвойных, на лай сторожевых псов. Мной постепенно овладевает безразличие: не все ли мне равно, светит солнце или луна, ясный ли день на земле или темная ночь. Где-то, в самом дальнем уголке памяти, промелькнуло воспоминание о девушке, которую я любил…
— Ап, ап, — напоминает о себе конвой.
Но я заставляю себя вернуться в пригрезившийся мне только что мир. Вот я у нее во дворе, под Москвой. Поднимаюсь на крылечко и тихо-тихо стучу в окно. Она отодвигает белую занавеску, смотрит на меня сквозь стекло и не узнает. Не мудрено — ведь она еще никогда не видела меня таким: грязным, оборванным, заросшим…
Нас приводят на вокзал. Гюнтер о чем-то беседует с шофером санитарной машины.
Прислоняюсь к столбу, на котором нарисованы череп и две кости крест-накрест. Под ними грозные слова: «Опасно для жизни».
Читать дальше