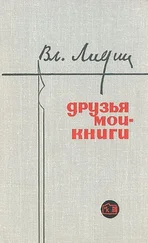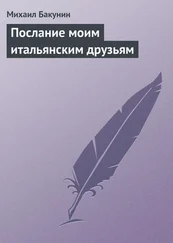Как и в тот раз, когда нас привели сюда из Кричева, станция забита воинскими эшелонами, платформами с танками, пушками и множеством ящиков, тщательно укрытых брезентом и замаскированных ветками и жухлыми листьями.
Молодой немецкий солдат, совершенно голый, стоит на платформе. Он поливает себя водой из ведра, и по его телу стекают грязные ручьи. Он смотрит на нас с презрением, не понимая, что и его самого бросили в чрево войны, как слепого щенка в быстрину.
На другом пути остановился санитарный поезд. Голый солдат о чем-то спрашивает раненого, высунувшего голову из окна вагона.
Семафор показывает, что путь на восток открыт. Короткий гудок, и эшелон с платформой, на которой возвышается голый немец, трогается с места. Солдат смотрит на последние платформы санитарного поезда, груженные обломками немецких самолетов. Неужели его не тревожит мысль о тех, кто на них летал?
Эшелоны идут и идут на восток. Значит, немцы готовят новое наступление?
Из теплушки, к которой нас подвели, пахнуло навозом и карболкой. Почему-то сразу вспомнился зеленый луг, медленно жующие коровы с тяжелым выменем и одновременно, но более отчетливо — госпиталь в лагере, бараки, с которыми мы только несколько часов назад расстались.
Внимательно смотрю на вагон. Непохоже, чтоб он был предназначен для перевозки пленных. Окошечко под самой крышей забрано не железной решеткой, а узкими деревянными рейками.
— Земляк, о чем задумался? — спрашивает Аверов.
Могу ли я сказать ему, что в эту самую минуту пытаюсь вообразить себе: вот я вырываю винтовку у одноглазого конвоира… Как тогда поведет себя он, Казимир Аверов? И еще я думаю о Гюнтере: как бы я поступил с ним?
— О чем? Да все о том же, Казимир Владимирович, гастрономические сны.
— Знал бы, ни за что бы не помешал. Что же ты ел, если не секрет? Баланду из крапивы или хлеб из опилок?
— Я ел свежие, горяченькие, с пылу, с жару, оладьи из тертой сырой картошки, поджаренные до хруста на свином сале.
— Вот истинно христианская душа! Ежели так, залезай, брат, опять на небеса, а я займусь земными делами. Как твое мнение, при нынешнем новом порядке разрешит мне этот ариец отойти в сторону и справить нужду?
Я заметил: Аверов чем-то встревожен, он сегодня более суетлив и разговорчив, чем обычно.
Свыше часа прошло, а мы все еще стоим у запломбированного вагона, и никто не решается дернуть тоненькую проволоку, на которой висит пломба.
На соседнем пути работают люди с желтыми заплатами на спинах. Они разгружают с платформы тяжелые бревна.
Теперь, когда судьба разлучила меня с друзьями: с Ивашиным и Глебом, с Алвардяном и Тереховым, когда Пименов и Сергеев не виснут у меня на руках, — что мне теперь мешает броситься, как тогда в Сухиничах, к ним, к этим людям, с немой скорбью несущим на себе печать смерти? Предупреждение Феди Пименова: «Ты с ума сошел?» Или тот невероятный факт, что я жив, все еще жив, несмотря на все муки? Теперь я знаю: самоубийство — это смелость трусов. Так просто я жизнь не отдам.
Железные борта платформы не очень высокие, но зато высоки стойки, восемь с каждой стороны, поставленные здесь, чтобы бревна не раскатывались. Сейчас, когда платформа почти разгружена, они уже не нужны, наоборот, из-за них оставшиеся бревна приходится поднимать намного выше. Кто-то попытался вытащить стойки, но тут же раздался окрик эсэсовца:
— Не сметь!
Затем он не спеша приблизился к нашему одноглазому конвоиру.
— Хайль! Мы с тобой случайно не земляки ли?
Одноглазый не спешит с ответом, рот у него набит хлебом и колбасой. Потом он вытирает усы и, поглядев на эсэсовца, отвечает:
— Здесь, на этой проклятой земле, все немцы земляки. Я лично из-под Лейпцига.
— А я из Берлина. Из самого центра. Это ты зря насчет того, что земля здесь проклятая. Единственное, чего не хватает, так это нашего нового порядка. Ты, я вижу, дорого за него заплатил. Ну что же, зато над твоей головой пули больше не свищут. В крайнем случае тебя отправят в обоз, на самую что ни на есть последнюю подводу. Ха-ха! — доволен он своей шуткой.
— Ха-ха, — передразнивает его наш конвоир, — сострил и рад! В обозе я уже, к твоему сведению, был. И именно на последней подводе, как ты изволил выразиться, потерял глаз. Тут ведь не знаешь, где раньше сложишь голову — на передовой или в тылу. Вот посмотри, стоят — ни дать ни взять овечки, а попробуй отвернись, сейчас же придушат, не успеешь и пикнуть.
— Думаешь, мои евреи лучше? Как бы не так. Тут и двух глаз не хватит. К тому же осталось их всего ничего. Зачем меня еще на службе держат! Нет, не говори, теперь таким, как ты, хорошо. Спросят тебя, что происходит, а ты всегда можешь ответить: «Прошу прощения, не вижу». — Он снова рассмеялся. — Как тебя звать?
Читать дальше