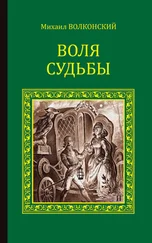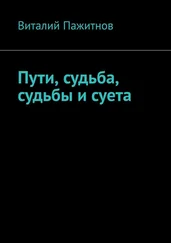Закрутин стоял на мостике и улыбался да головой покачивал. Никогда еще он не был так доволен своим судном.
— На каких только пароходах не плавал я на своем веку, а такого не встречал. Ай да «Грозный», ай да молодец!
— А как же, Василь Михайлыч, насчет самоходной-то баржи? — с видом очень удивленного и озабоченного человека спросил штурман. — Скучает ведь она по тебе.
Приподняв фуражку, Закрутин провел ладонью по жесткому седому ежику. Лукавый вопрос Фролова застал его врасплох.
— Гм… Скучает, говоришь?
— Истосковалась вся, — с ухмылкой подтвердил Фролов.
Капитан внезапно рассердился.
— Вам, молодягам, только хаханьки да хиханьки, а на дело вас нет, — ворчал он на Фролова. — Разве мне бы, старику, возжаться с этими корытами? Нет, ты как хочешь, а отпускай меня на самоходку. Хватит, потягал я баржонки, теперь твой черед.
Капитан говорил требовательным голосом, свирепо хмурил брови, а штурман только посмеивался. И, не выдержав этой недоверчивой усмешки, Закрутин отвернулся и стал смотреть на караван, на проложенную баржами широкую извилистую дорогу.
Давно прошли Кривое колено, а капитан все смотрел на свой тяжелый, длинный воз. Баржа, подчаленная сзади, сидела так низко, что за хлебницами ее не было видно.
Только солдатик весело и деловито вертелся на мачте и рубил воздух своими саблями.
1
Огонь никто не мог остановить. Леса горели до зимы. Когда, наконец, пожар иссяк, старый бор не узнал себя. Он был черен. Деревья умирали, лес погибал. И казалось, что сквозь гарь и завалы рухнувших стволов не пробиться из выжженной земли ничему живому.
И вдруг под корнями одной из четырех чудом уцелевших сосенок что-то дрогнуло, влажно затрепетало, зачмокало. Слабый, приглушенный, но живой упрямый шум пробивался откуда-то из глубины земли. То он внезапно угасал, словно замирая, то, как бы собравшись с силами, становился все яснее, все отчетливее.
Странное, удивительное происходило под землей. Маленький, вновь народившийся родник боролся за жизнь свою с огнем, внедрившимся под землю.
Победил родник. Заглушив ползучий торфяной огонь, растолкал он своими упругими струями песок и мхи, раздвинул корни сосен и выбился на свет. И, точно радуясь своему рождению, зажурчал, запрыгал по овражкам и ложбинкам, перекатывая цветные камешки опоки и обуглившиеся сучья. И, прислушиваясь к его бойкому журчанию, повеселел суровый бор.
К роднику сходилось уцелевшее зверье, слетались птицы.
А однажды подошел человек.
Одежда на нем истлела, лапти растрепались, ноги почернели от золы и гари, берестяной пестерь был пуст. Человек шел издалека. Человек изнемогал от усталости и жажды. У родника он опустился на колени, припал к холодной попахивающей гарью струе и начал пить, жадно шевеля пересохшими губами, судорожно двигая заросшим кадыком.
Напился человек, омыл потное лицо заскорузлой, как бы обуглившейся ладонью, стряхнул с усов и бороды покоробленные мокрые хвоинки, сел на замшелый камень и вздохнул. Сидел, курил глиняную трубку, набитую мхом, вслушивался в тихие, успокоительные всплески родника и все осматривал поляну. А потом вынул из-за пояса топор, срубил прямую высокую сосну, обгоревшую от корня до вершины, и принялся ладить себе жилище.
Человек постукивал топориком да все посвистывал про волю вольную. И журчал, вторил ему родник. И не скучно было им вдвоем в лесу.
Но как только избушка была готова, сел человек на тот же мшистый камень и бессильно опустил большие руки. Была у него воля, да не было свободы, был у него дом, да не было семьи.
И ушел человек.
Вернулся он не скоро. Но зато вернулся не один. Вместе с ним пришла его подруга.
Он был широк в плечах, высок и крепок, как молодой ясень. Она — мала, тонка, хрупка, как липка. Он — беглый холоп, приставший к вольнице Степана Разина и после казни лихого казака хоронившийся в этих лесах от гнева царского. Она — горемыка-сирота, убежавшая с ним, каторжным, от мачехи, порешившей выдать ее за старого вдовца.
Она, степнячка, боялась леса. Темные стволы, раскинувшие, будто руки, обгорелые свои ветви, казались ей недобрыми людьми, исподтишка выслеживающими их. И ей было страшно и за себя, и за него.
Читать дальше