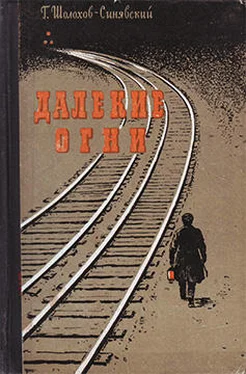Холодная желтизна гаснущего за курганами солнца разливалась вокруг. На западе, на зеленовато-голубом фоне неба плавали дымчатые и пышные, накаленные солнцем облака. Они меняли очертания и цвета, точно невидимый художник водил кистью по ясному полотнищу неба. То сияли они, как золото, то отливали тускло мерцающей водной рябью, то вспыхивали алым заревом и походили на пылающие старинные корабли, плывущие по волнам нездешнего моря. А когда солнце спускалось за синий, по-осеннему резко очерченный горизонт, облака приобретали сначала лилово-розовую, фиолетовую, затем строгую, металлически сизую окраску, и только края их, точно остывая, тускло, оранжево блестели. Потом гасли в эти последние теплые отблески: тогда груды темного пепла вздымались на небе, и веяло от них холодом, как от далеких горных вершин.
Сидя где-нибудь у края дороги, Володя следил за игрой красок, за медленным умиранием солнца. Он думал об отце и матери, о Ковригине, о Зине… Вспоминал людей полустанка — красавицу Анну Петровну, злобного Зеленицына, мрачного Игната, оскверняющего жизнь похабными рассказами, безвольного и равнодушного к своей рабьей судьбе Друзилина.
Хотелось чего-то необыкновенного и прекрасного, как этот закат, хотелось видеть мир широко, видеть своими глазами все, что было знакомо только по книгам.
И снова доставал Володя из подкладки картуза потертый листок и при свете меркнущего вечера перечитывал расплывающиеся строчки…
Они звали в неизвестное, в необъятную широту мира, в неясное будущее.
Влажные тени ложились на степь, дали исчезали в сумерках. Володя, поеживаясь от холода, медленно возвращался на полустанок.
В субботу вечером он уехал домой.
Сойдя с товарного поезда, направился прямо к Алеше, с уверенностью, что тот разделит его чувство. Но ошибся. Прочитав письмо, Алеша замахал руками, стал испуганно озираться.
— Иди-ка ты, химик, со своим Ковригиным. Ну его к монаху! Узнает опять жандарм, да батька мой, — не жить мне тогда. Ты что — в тюрьму захотел? Нет, экстерн, не поеду я ни за какие пряники… И тебе не советую… И письмо ты это порви, чтобы и памяти его не осталось…
Володя сердито и ошеломленно смотрел на товарища.
— Такой ты, значит, друг? Улиткой хочешь жить? — упрекнул он фразой из письма.
— Пошел к монаху, — рассердился Алеша. — Ты что — учитель мне? Молодой еще…
— Испугался? Трус ты… — вскипел Володя.
— Ну-ка, не здорово… Ты смотри, жандарм узнает — он тебе…
— Ты скажешь? — Володя прищурил глаза.
— Пошел к черту!.. Ты дурак, не знаешь, куда лезешь.
— Сам ты дурак!
— Ну и ладно. Я с тобой не разговариваю.
Алеша сплюнул, пошел во двор.
Ссора разыгралась так неожиданно, что Володя не успел собраться с мыслями.
Будка встретила его необычной тишиной. Семья Дементьевых уменьшилась еще на одного человека. Марийка уехала в город, поступила горничной к Ясенским. Володя еще сильней ощутил теперь одиночество и грусть. Так хотелось повидать веселую, неунывающую сестру, услышать ее звонкий смех, поделиться с ней переживаниями.
Он прошел в спальню и на маленьком столике, среди книг, увидел обломок гребешка, алую ленточку и яркую коробочку из-под пудры, выброшенную когда-то неведомой пассажиркой из окна поезда. Эти наивные мелочи напоминали о сестре так живо, что Володя долго стоял, охваченный грустью… Сердито сдвинув брови, он вышел из спальни, сказал, поглядывая исподлобья на мать:
— Завтра я утренним поездом еду в Подгорск. Проведаю в больнице отца…
— Поезжай, сынок… — согласилась Варвара Васильевна. — Из еды чего-нибудь захватишь отцу-то?
Володя с минуту колебался, сказать ли матери о письме Михаила Степановича, но, вспомнив ее слова о забастовщиках, промолчал.
На рассвете он выехал в Подгорск. Сначала пошел в железнодорожную больницу. Был ранний час скучного пасмурного дня; к больным не пускали. Володя часа два ждал в неуютной, уставленной белыми скамьями приемной, рассеянно разглядывал грубо намалеванные больничные плакаты…
Наконец вышел служитель в белом халате и проводил его в палату, где лежал Фома Гаврилович. Свидание было недолгим, фельдшеры торопили посетителей. Сидя у кровати, Володя со смешанным чувством радости и горечи разглядывал отца. Фома Гаврилович очень похудел, из-под халата резко выпирали костлявые плечи; борода, казалось, еще больше размахнулась, во всю ширину груди, ярче серебрилась новыми прядями седины. Фома Гаврилович торопливо расспрашивал о доме, о матери. Темные глаза светились тепло и мягко. От правого плеча свисала короткая култышка. Фома Гаврилович осторожно шевелил ею. Этот уродливый остаток когда-то сильной руки казался Володе оскорбительным, и когда отец сказал: «Дней пять еще осталось, а потом из больницы долой: Слышал я — выйдет мне награда», — Володя не обрадовался: награда показалась ему такой же оскорбительной и нелепой. Он молчал, исподлобья посматривая на спрятанную в рукав култышку. Ничего не сказал он о допросе у жандарма, о посещении ротмистра, о письме Ковригина. Знал — это огорчит и встревожит отца. Он рассказал о своей работе у мастера, о приезде дяди Ивана… Фома Гаврилович лишь рукой махнул:
Читать дальше