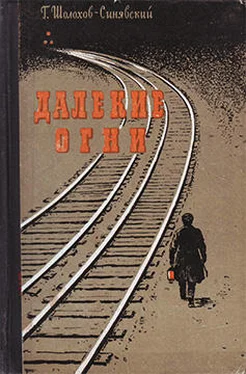Аннушка вошла с подносом в руках, поставила на стол бутылку красного вина, глиняный кувшин с холодным топленым молоком, яблочный душистый пирог, вазу с черно-сизым виноградом.

— Угощайся без церемониев, — сказала Аннушка. — Живем мы в степи — городских угощений нету… Так что не обессудь.
Она села, сложив на груди загорелые руки, смотрела на Ясенского весело и спокойно. Владислав Казимирович выпил вина. Кисловатое и холодное, оно показалось ему необыкновенно вкусным. Приятное ощущение покоя охватывало его все сильнее. Он медленно ел рассыпчатый, пахнувший анисовыми яблоками и ванилью пирог, тонкими белыми пальцами отрывал от виноградных кистей синеватые ягоды, клал в рот, а Аннушка смотрела на него, как мать на проголодавшегося ребенка говорила:
— Прислугу Фенюшку я послала к артельному. Пущай погуляет с Федей… А чтоб муж не нагрянул, я дежурного на разъезд послала. Есть тут у меня один дежурный. Табельщик новый. Такой тихий, послушный мальчонка, путевого сторожа сын. Сказала я ему: походи, посиди, а как дрезина загремит, скорей беги и в окошко стучи.
Владислав Казимирович нахмурился.
— Табельщика-то зачем посвящаешь в наши дела? Как ты не понимаешь, Аннушка, моего положения?
— Чего уж тут понимать. Шила в мешке не утаишь. — Аннушка налила в стакан вина, выпила, вытерла губы полотенцем. — Все знают, что ты ездишь ко мне. А зазорно — не приезжай… — Она тихонько засмеялась. — Все знают, как ты мастера моего на околоток спроваживаешь. Иногда и жалко мне его станет, а больше противно. Так вот взяла бы его да перед всеми и потоптала ногами. Так бы и закричала на весь мир, что люблю тебя, что ты вот, такой господин, ездишь ко мне, а не на околоток… А вот закричу!.. Ей-богу, закричу!.. Будь что будет. Надоел мне этот рябой… И вся эта жизнь проклятая!
— Перестань, — хмурился Ясенский. — Это глупо.
— Почему глупо? Ведь ты ездишь, чтоб поиграть, а я люблю тебя. Больше твоей жены люблю. Зачем ездишь? Прислуга твоя ведь я… Ну, побаловался, потом замуж выдал за хорошего человека. Ну и спасибо… А ездишь зачем?
Аннушка приблизила к Ясенскому лицо, недобро сощурилась.
— Перестань, говорю, — Ясенский притянул женщину к себе. Аннушка вытянулась на его коленях, обвила его шею руками, вздохнула.
— А иной раз погляжу на тебя и подумаю: сними с тебя вот этот мундир с пуговицами — и ты дураком будешь, не хуже мастера моего.
— Почему же? — озадаченно спросил Ясенский.
— А потому… — И Аннушка победоносно улыбнулась…
XV
Разъезд давно спал. Единственный керосиновый фонарь брезжил на платформе, да вдали немигающе блестели из тьмы стрелочные огни. На черно-синем небе дрожали звезды, яркие, холодные, далекие.
Володя сидел на штабеле новых шпал, прислушиваясь, не гремит ли вдалеке дрезина. За несколько дней он уже успел освоиться с мыслью, что все поручения мастера и его жены надо выполнять исправно. Вставал он в шесть часов и шел по околотку собирать у артельных старост рапортички о количестве рабочих, о том, что должна делать каждая артель. Собрав сведения, он составлял телеграмму для начальника участка пути, которую надо было сдать телеграфисту не позднее восьми часов, потом писал рапорт о ремонтных работах. Жизнь путевого околотка превращалась в маленькой канцелярии дорожного мастера в графы книг, ведомостей и форм. Самые простые вещи, которые прежде не задевали внимания Володи, складывались здесь в мудреные сплетения слов. Даже люди носили здесь какие-то мертвые обозначения. Володю смешило, что дорожный мастер Друзилин был не кто иной, как ПД, начальник участка пути — ПЧ, артельный староста — ПР, начальник разъезда — ДС, а начальник всей дороги именовался лаконично Н.
Все эти условные наименования казались Володе характерными кличками, за которыми скрывались разные люди то добрые, то злые, то строгие и важные, как Ясенский, то серые и скучные, как Друзилин.
Все эти ПЧ, ТЧ, ШЧ назойливо роились в мозгу Володи. Часами просиживал он за столом над книгой рапортов, записывая в нее путевые работы. Сначала он путал подбивку толчков на щебне с подбивкой на балласте, версты и погонные сажени с количеством рабочих, плохо разбирался в номенклатуре работ, не мог привыкнуть к пестроте цифр и часто портил формы и бланки.
Друзилин, посапывая изрытым оспой носом, поучал Володю равнодушным монотонным голосом. Но не обладая большой грамотностью, иногда путался сам и бормотал свое невнятное «гм, гм»… Тогда Володе приходилось доходить до сути дела самому. Друзилин журил его за ошибки, но никогда не повышал голоса. Это был добрый и мягкий человек. Особенно ревниво следил он за тем, чтобы почерк табельщика был красив и правилен. Просмотрев все написанное Володей за день, прочитав наставление о необходимости украшать почерк, Константин Павлович говорил, пощипывая бородку:
Читать дальше